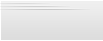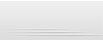1.5. Необходимое уточнение
В качестве небольшого отступления нужно сказать, что система строевых единиц текста является в большей мере исследовательским конструктом и в меньшей — объективной реальностью. В реальности существуют не столько единицы (такие же строго определенные, с четко, грамматически, выраженным центром, каковы единицы синтаксической системы языка), сколько тенденции, традиции, конвенции, сплошь и рядом нарушаемые. Другое дело то, что за тенденциями и традициями кроются объективные закономерности мышления, которые определяют то или иное типовое содержание (например, описание предмета, описание интерьера, описание вида из окна, описание пейзажа [в целом ряде разновидностей], описание внешности [женской, мужской, детской, стариковской] и т.д. и т.п.), что тесно — но по-разному — связано с функционально-смысловыми (О.А.Нечаева) и композиционно-смысловыми (С.Г.Ильенко) типами речи. Эти типовые содержания, разумеется, в идеале требуют использования определенных разновидностей того или иного функционально-смыслового типа речи, но могут в каждом конкретном случае "свя-зывать свою судьбу" с любым из существующих композиционно-смысловых типов, откуда с неизбежностью вытекает не жесткая заданность, а веер возможностей реализации типового содержания. Кроме того, типовое содержание вовсе не обязательно реализуется в развернутой сверхфразовой структуре: элементарным описанием является уже одиночный эпитет. Вот именно с этой поправкой (не единственной, но весьма существенной) можно утверждать, что типовое содержание диктует языковую форму соответствующей текстовой смысловой зоны и, в конечном счете, определяет использование той или иной из традиционно сложившихся форм выражения концептуально значимого смысла — единицы текстообразования. При этом "использование" в данном случае практически равнозначно "формированию".
Известная особенность художественного текста, однако, заключается в том, что он всегда стремится прочь от всего типового, заранее заданного. Нарушение любых норм, как известно, органически свойственно его природе. Пути этих нарушений — если иметь в виду уровень сверхфразовой организации — можно наметить.
Во-первых, типовое содержание может быть реализовано в непривычной, нетрадиционной композиционно-смысловой форме. Простейший пример — уже упомянутое свертывание описания до уровня элемента структуры предложения, чем очень часто пользуется любой писатель. Набоков, между прочим, нередко играет на привычности этого приема путем его превращения в противоположный — настойчиво расширяя описание до многокомпонентного словосочетания или до уровня предикативной единицы, но почти искусственно, насильственно оставляя его в подчиненном положении:
Из театра Келлер повез жену в нарядный кабачок, который славился своим белым вином, и только во втором часу ночи автомобиль, легкомысленно освещенный изнутри, примчал их по мертвым улицам к железной калитке степенного особнячка. Келлер, старый коренастый немец, очень похожий на президента Крюгера, первый сошел на панель, где при сером свете фонаря шевелились петлистые тени листьев ("Возвращение Чорба").
Во-вторых, одно типовое содержание может быть контаминировано с другим или с целым рядом других. Приведенный только что пример включения элементарных описаний в повествовательный фрагмент — простейшая иллюстрация на эту тему. Если "чистые" описательные, или повествовательные, или "рассудительные" сверхфразовые компоненты вообще встречаются, как известно, редко, то у Набокова — еще реже. Как правило, он монтирует описание внутри повествования, рассуждение — внутри описания, а описание снабжает встроенным повествованием (ср. историю создания пансиона в начале 2-й гл. "Машеньки"), при этом иногда еще и пользуясь "антиприемами" или, во всяком случае, "освежая" привычный прием (ср. выше анализ 1—6 абзацев "Возвращения Чорба", или замечание из первой главы "Дара": "На лбу у фургона виднелась звезда вентилятора, а по всему его боку шло название перевозчичьей фирмы синими аршинными литерами, каждая из коих (включая квадратную точку) была слева оттенена черной краской: недобросовестная попытка пролезть в следующее по классу измерение"). Более сложный случай представляют собой сквозные переплетения типовых содержаний (тем, микротем), которые, тем не менее, распространены очень широко и в наиболее отчетливых (адекватных желаемому содержанию) идиостилях влекут за собой возникновение своеобразных сквозных, "вертикальных", текстовых единиц (К.А.Рогова).
Если учесть эту — сущностную — особенность художественного текста, то его сверхфразовую организацию придется представить отнюдь не как строго упорядоченную последовательность тех или иных сверхфразовых компонентов, каждый из которых формируется путем "вызова" соответствующей единицы (модели) текстообразования в нужный момент, в зависимости от типового содержания и эстетических намерений автора. Эта организация — точнее было бы даже сказать "организованность" — формируется стихийно, в результате естественного тяготения компонентов содержания — и, следовательно, их выразителей — к определенным центрам, ведущим смыслам, их (компонентов и выразителей) приспособления друг к другу под знаком подчиненности тому или иному центру, — вот, собственно, и все. Отсюда одно важнейшее следствие: ни в одном художественном тексте не действует правило, имеющее силу закона в текстах, например, юридических сводов: смысловые поля не должны перекрещиваться, текстовые зоны не должны "наползать" друг на друга, единицы сверхфразового уровня не должны сливаться друг с другом. В художественном тексте, повторяем, это правило не действует! Поэтому, собственно, особенности набоковского идиостиля, выявляемые на уровне сверхфразовой организованности текстов его произведений, представляют собой не столько "нарушения нормы текстовости", как мы настаивали раньше (Дымарский 1993б), сколько следование "норме" художественности, как понимает последнюю В.В.Набоков, хотя и нарушения первой в текстах его произведений можно усматривать с достаточным основанием, если считать "нормой текстовости" традиции, узаконенные XIX веком.
Безусловно, только что сказанное вступает в явное противоречие с данным выше определением. С другой стороны, мы сознательно отказались от попытки каталогизации всех "значений", которые могут встретиться на "осях селекции", то есть "осях" событийной, мотивной и субъектно-объектной структур, регистрации всех возможных сочетаний и реализаций последних на "оси комбинации" — в текстовых компонентах сверхфразового уровня. Между тем такая перспектива была бы очень заманчива, ибо за ней вырисовываются контуры формулы сверхфразовой организации текста...
Видимо, истина лежит, как всегда, между тотальной упорядоченностью и полной анархией. Поэтому сочтем данное определение удовлетворительным.
2. Композиция и сверхфразовый уровень организации текста рассказа И.А.Бунина "Холодная осень"
Рассмотрение этого уровня организации текста построим следующим образом: вначале охарактеризуем связь сверхфразового членения текста с композиционной и сюжетной структурой рассказа, затем подробнее остановимся на особенностях сверхфразовых компонентов текста.
2.1. Сверхфразовое членение в соотношении с композиционной и сюжетной организацией рассказа
Специальное выделение этого аспекта обусловлено очевидной взаимосвязью указанных начал. Именно сверхфразовое членение оказывается тем уровнем организации текста, который наиболее естественно направляет первоначальное восприятие и осмысление сюжета и композиции, а значит, и всего рассказа в целом.
Как это происходит в рассказе "Холодная осень"? Композиционно он состоит из трех частей: первая повествует о помолвке и прощании героини с женихом, вторая — о всей ее последующей жизни, третья содержит оценку того и другого, осмысление их соотношения — с позиции героини и ее устами. Уместно подчеркнуть, что весь рассказ написан от лица героини, выдержан в форме "житейской истории", присутствие автора на поверхностном уровне текста никак не обнаруживается. Однако рассмотрим соотношение композиционных частей и абзацного членения. Поскольку композиция трехчастна, в тексте должны иметь место два перехода между частями. Правомерно ожидать, что каждый из этих переходов будет сопровождаться указанием на соответствующее изменение временного плана (хронотопическим маркером), тем более что в первой части рассказа подобные маркеры появляются регулярно (см. текст), формируя норму данного текста. Однако структура абзацных фраз, начинающих вторую и третью части, не оправдывает ожидания и нарушает установленную в первой части норму текста. Эти фразы включают временные локализаторы, но не в качестве исходного пункта высказывания. В обеих фразах таким исходным пунктом (темой) оказывается сообщение о смерти жениха (Убили его... через месяц, в Галиции; Так и пережила я его смерть..., во второй фразе — инверсия компонентов актуального членения). Так вторая и третья части оказываются объединенными общим смыслом — другая жизнь, не та, которая, казалось, ждала героиню. И в этой другой жизни, символом которой становится смерть любимого человека, выделяется момент актуального настоящего, момент рассказа-итога.
Заметим, что указанное отступление от установленной в первой части нормы текста имеет следствием некоторое смягчение границ между композиционными частями рассказа. Возникает контраст между явной противопоставленностью частей (особенно первой и второй) и общей плавностью повествования. Ясно, что это не только заставляет читателя глубже вникать в чисто смысловые сопоставления, но и добавляет важные штрихи к психологическому портрету героини, а в целом обнаруживает авторское присутствие на уровне композиционной организации рассказа.
Обратим внимание на противоречие, обнаруживаемое в логике композиции рассказа и тесно связанное с его сверхфразовой организацией; оно заключено в его последней, третьей части. В сущности, здесь даже не одно, а два противоречия. Первое из них связано с объемом этой части, второе — с ее участием в оформлении логико-композиционной структуры рассказа.
Объем заключительной, третьей, части неожиданно мал. И.А.Бунин, кстати, не только в "Холодной осени" виртуозно использовал эффект "обманутого ожидания". Столь же неожиданной оказывается концовка в целом ряде других произведений, например в рассказе "В одной знакомой улице", который был написан почти одновременно с "Холодной осенью" (датирован 25 мая 1944 года).
Почему подобная концовка кажется читателю неожиданной? Эти рассказы (как и целый ряд других) построены на коммуникативной ситуации вспоминания. Не воспоминания как жанра, а именно вспоминания: сюжет рассказа оказывается встроенным в ситуацию речемыслительного действия вспоминания. И.А.Бунин рано оценил возможности использования такой "коммуникативно-ситуационной" рамки: как известно, уже рассказ "Антоновские яблоки" (1900 г.) начинался фразой: "...Вспоминается мне ранняя погожая осень". Но если "Антоновские яблоки" тяготеют к эссеистичности и сюжет рассказа сравнительно аморфен, так как лишен фабульной основы, то поздние рассказы, напротив, новеллистичны, в основе сюжета лежит энергичная фабула, да и сам сюжет настолько плотен и сжат, что подчас сливается с фабулой (как, например, во второй части рассказа "Холодная осень"). Это различие имеет существенное значение. При столь явно контрастирующем содержательном наполнении коммуникативно-ситуационной рамки различными оказываются в итоге и самые коммуникативные ситуации. В первом случае ("Антоновские яблоки", "Суходол") целевая установка вспоминающего состоит в размышлении о вызываемом в памяти прошлом в сопоставлении его с настоящим. Это, в сущности, развернутый акт сложнейшей рефлексии, где прошлое осмысливается через настоящее, настоящее — через прошлое, и именно в нащупывании этих неуловимых, часто драматических связей состоит, по-видимому, raison d’être художественного воплощения коммуникативной ситуации вспоминания в единстве с ее содержательным наполнением. Ситуация вспоминания становится при этом фактически единственным и главным сюжетом произведения: именно движение мысли вспоминающего — логическое ли, ассоциативное — движет текст от одной воссоздаваемой картины прошлого к другой. Сами же эти картины в единый сюжет не выстраиваются, но органично включаются в движение мысли, которое происходит как бы "здесь, сейчас" — в настоящем времени читателя.
Иная картина во втором случае. Коммуникативная ситуация вспоминания, локализованная в настоящем (в "Холодной осени" это настоящее совпадает с настоящим читателя), и план прошлого резко разделены не только в художественном времени, но и в организации сюжета. Каждый временной план имеет свой собственный сюжет и свою фабулу, и связаны они — как задано, во всяком случае, в начале любого такого рассказа — лишь тождеством личности вспоминающего в настоящем и действующего лица в прошлом. Однако этого тождества достаточно для возникновения некоей "разности потенциалов" между двумя сюжетами: прошлым и настоящим. Эта разность потенциалов (напряжение) рождается из контраста между самоощущением повествователя-героя в разных сюжетно-временных планах и усиливается эксплицируемым отношением повествователя к вспоминаемому. Кроме того, автор, запустив часы сразу двух сюжетных времен, затем останавливает часы настоящего времени — и тем самым заводит пружину читательского внимания, заставляя его со всевозрастающей заинтересованностью ожидать, когда же, наконец, вновь пойдут часы настоящего. План настоящего становится в читательском восприятии "ружьем", которое, как известно, непременно должно выстрелить; читатель ждет — с полным основанием — не только того, чем закончится история в прошлом, но, главное, как она будет связана с настоящим, в каких событиях, поступках, потрясениях она отобразится в настоящем героя-повествователя. Взаимоотношения между двумя сюжетами образуют некий гиперсюжет — со своими структурными элементами: завязкой, конфликтом, кульминацией. Вот этого-то, отображающего прошлое в настоящем, события-развязки и ждет читатель.
Кстати сказать, в других бунинских рассказах такая развязка гиперсюжета имеет место: например, рассказ "Руся" завершается возвращением к сюжету настоящего, и в диалоге героя с женой, расставляющем все точки над "i", прошлое отображается именно в его конкретном речевом поступке. Однако в рассказах "Холодная осень", "В одной знакомой улице", "Муза" концовка принципиально иная. В новелле "Муза" план настоящего вообще не возвращается; что же касается двух других рассказов, то в них такое возвращение вроде бы происходит, но тут же обрывается. Никакого сюжетно, событийно выраженного отображения вспомненного прошлого здесь мы не встретим. Более ярко и резко это сделано в новелле "В одной знакомой улице", но и в "Холодной осени" принцип тот же. На поверку такая концовка оказывается еще более сильным приемом: это тот случай, когда тишина вместо ожидаемого выстрела оказывается более оглушительной.
Эффект от такого построения гиперсюжета очевиден: разность потенциалов не получает сюжетного разрешения (конфликт гиперсюжета оставлен без развязки), и вся энергия внимания вынужденно "обрушивается" на сюжет прошлого. Значимость этого сюжета возрастает, что само по себе уже способно подтолкнуть читателя к определенным выводам. Писатель самой сюжетно-временной организацией рассказа как бы программирует ход его восприятия и осмысления читателем, закладывая в эту программу обязательное возвращение назад — в поисках там, а не в настоящем, того главного, ради чего, собственно, и вспоминал повествователь прошлое. Подобный рассказ невозможно прочитать и забыть; он "застревает" в памяти.
Смысловая нагруженность описанного логико-композиционного приема в рассказе "Холодная осень" также очевидна. Читатель вынужден искать ответа на поставленные вопросы в сюжете из прошлого — значит, этот сюжет — главный, в нем для героя-повествователя — все, в настоящем же — пустота. Так слова героини, сказанные в конце рассказа, обретают сюжетно-структурное подкрепление, оказываются воплощенными в художественной ткани произведения. Даже объем заключительной части рассказа становится одним из средств собственно текстовой организации, фиксирующих глубинный смысл, точнее, участвующих — в единстве с другими частями — в его невербальном, но тем не менее вполне материальном выражении.
Вторая составляющая противоречия, заложенного в концовке рассказа, имеет уже чисто логический характер. Концептуально значимый смысл концовки на первый взгляд вполне прозрачен. Сюжетно выраженная антитеза "один вечер — вся жизнь" получает теперь вербальное закрепление: о вечере говорится "...это все, что было в моей жизни", о всех последующих десятилетиях — "ненужный сон". Отсюда — следующая подстановка, переворачивающая соотношение внутренних объемов каждого из членов оппозиции: если тот осенний вечер — это все, что было в жизни, то этот вечер и есть вся жизнь; в свою очередь, вся жизнь, оказывающаяся лишь "ненужным сном", — это не-жизнь (здесь вспоминается Кальдерон — семантика рассказа оказывается соотнесенной с европейским историко-философским контекстом; но эта соотнесенность заставляет почувствовать и то трагическое, что вписано в этот контекст Россией в ХХ в.).
На этом можно было бы и остановиться: и философский смысл, то есть противопоставление мига — жизни и вечности — не-жизни, утверждение абсолютной ценности этого мига, так же как и всепобеждающей силы человеческой души, которая, по словам М.Цветаевой, "не что иное, как совесть и память", и более конкретный социально-исторический смысл рассказа (трагедия целого поколения, жизнь которого, не успев расцвести, обернулась "холодной осенью") — представляются уже вполне определенными. Но есть одно обстоятельство, заставляющее усомниться в однозначности этой трактовки.
Обстоятельство это следующее. Коммуникативно-ситуационная рамка вспоминания, образующая, как говорилось выше, второй сюжет рассказа, локализованный в настоящем, формируется не сразу и не прямо, а исподволь. Первоначально в тексте лишь возникают сигналы коммуникативной ситуации вспоминания, устанавливающие временную дистанцию между настоящим рассказчика и сюжетом прошлого ("В июне того года", "все тогда думали..."). В полной мере очертания этой ситуации обозначаются лишь тогда, когда главная часть сюжета прошлого, повествование о прощании с женихом (I часть рассказа), завершена. Здесь же указываются и точные размеры временной дистанции, разделяющей эту часть сюжета и настоящее рассказчицы: И вот прошло с тех пор целых тридцать лет. И многое, многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым. Именно этот момент мы должны идентифицировать с тем моментом, который зафиксирован в концовке рассказа. И именно здесь мы наталкиваемся на несоответствие: момент, казалось бы, один и тот же, а вот позиция героини-рассказчицы идентификации не поддается. Ведь это те самые годы и события, которые в конце рассказа названы "ненуж-ным сном", здесь характеризуются как "все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым"!
Интерпретировать это несоответствие можно трояким образом. Или неверно, что два указанных фрагмента рассказа отображают одну и ту же коммуникативную ситуацию вспоминания; или неверно, что две указанные характеристики относятся к одному и тому же периоду жизни героини; или неверно приведенное выше толкование отношения героини к этому периоду. Поскольку и первое, и второе опровергается языковой структурой текста, избираем третье.
Однако выйти из противоречия не так-то просто. Что неверно в толковании позиции героини? Что все пережитое ею (и ее поколением) за "целых тридцать лет" — "ненужный сон"? Но это ее собственные слова. Что "только тот холодный осенний вечер" — "это все, что было в жизни" героини, то есть вся ее жизнь? Но и это ее собственные слова или то, что из них непосредственно следует. Пожалуй, приходится допустить, что для героини понятия «ненужный сон» и «все то волшебное, непонятное, непостижимое... что называется прошлым» не являются по своей оценочной окраске взаимоисключающими. И вот здесь открывается новый оттенок смысла. В указанном допущении нет, если вдуматься, ничего невероятного. Что такое сон, если не нечто волшебное, непонятное, непостижимое? По-видимому, резко негативный смысл в сочетании "ненужный сон" возникает благодаря прилагательному, причем в сознании современного читателя; но ведь героиня рассказа получила совершенно иное воспитание, она воспринимает мир не в черно-белой гамме. Тогда несколько смягчается трактовка всей жизни героини как не-жизни: говоря "сон", она, может быть, и не имеет в виду состояние, противоположное жизни.
Наконец, еще одно уточнение. Любопытно, что слово прошлое употребляется в рассказе всего один раз — в цитированном выше контексте; и в этом контексте оно отнесено только к тем десятилетиям, которые прошли с осени 1914 года. Это позволяет, как кажется, приблизиться к подлинному смыслу антитезы, о которой уже достаточно говорилось. У прошлого, оказывается, не одна, а две четко обозначенные границы: оно начинается осенью того катастрофического года и тянется все последующие три десятилетия. Все эти годы и события — то, что происходит, что преходяще, это в буквальном смысле прошлое. А "тот холодный осенний вечер"? Настоящее. Здесь актуальны оба смысла слова настоящее — и временной, и модальный: настоящее — нынешнее и настоящее — истинное. И это нынешнее и истинное настоящее, по убеждению героини, имеет прямое продолжение в будущем. Только оно, это настоящее, не только было, но и есть в ее жизни, им — и его продолжением — она, собственно, и живет.
Как же формулируется в итоге все та же антитеза? Что противостоит настоящему — нынешнему, настоящему — истинному? По-видимому, ненастоящее — прошлое, ненастоящее — заблуждение. Жизнь истинная всегда действительна, и даже если она — миг, такой миг сильнее вечности, он сам — вечность,. во всяком случае — в масштабе человеческого бытия; нет нужды останавливать мгновение — оно само продлится вечность. А жизнь-заблуждение, жизнь-сон, каким бы ледяным дыханием вечности ни веяло от нее, все-таки преходяща, ее удел — забвение, у нее нет продолжения в будущем. Не много оптимизма прибавляет такое толкование к смыслу рассказа — хочется для героини все-таки земного, а не потустороннего счастья; но все же не окончательно безнадежной выглядит на этом фоне рассказанная ею история, и глубоким смыслом наполняются ее последние слова.
Резюмируя сказанное, отметим следующие моменты в общей характеристике сверхфразовой организации рассматриваемого текста.
1) Сверхфразовый уровень организации бунинского текста является самостоятельным уровнем текстовой организации. Он тесно связан с композицией рассказа, но не прямо отображает ее, а взаимодействует с ней, выражая в этом взаимодействии определенные аспекты смысла целого. Если иметь в виду классификацию видов информации в тексте, предложенную И.Р.Гальпериным (Гальперин 1981), можно сказать, что сверхфразовая организация в данном случае оказывается специфически текстовым средством выражения содержательно-подтекстовой информации, носящей концептуальный характер.
2) Взаимодействие сверхфразовой организации текста с композицией рассказа выражается, в частности, в следующем:
а) сверхфразовое членение не столько выражает членение композиционное, сколько участвует в создании "достаточно зрелой и единственной ситуации" (О.Мандельштам), которая оказывается необходимым условием осуществления композиции; сверхфразовое членение отчасти "затемняет" логику композиции, и в результате текст, композиционное членение которого построено на яркой антитезе, все же сохраняет в качестве доминирующей тенденцию к интеграции, а не к делимитации; сверхфразовый уровень организации, таким образом, оказывается одним из средств достижения эффекта континуальности повествования;
б) единицы сверхфразового членения текста вступают в отношения своеобразного единоборства с единицами композиционного членения рассказа. Так, вторая композиционная часть рассказа, охватывающая огромное содержательное пространство, будучи «втиснутой» в рамки одной сверхфразовой единицы, подчиняет себе организацию последней. В результате формируется гибридная структура, совмещающая в себе черты разных единиц текста (подробнее см. п. 2.2). Третья же композиционная часть рассказа, напротив, как будто уступает единице сверхфразового членения: с завершением последней (по структуре это довольно обычное ССЦ) якобы завершается, а на самом деле обрывается и третья композиционная часть. Этот обрыв актуализирует сложную сюжетную структуру рассказа и как бы программирует читательское восприятие.
2.2. Характер сверхфразовых компонентов текста
Только что была охарактеризована трехчастная композиционная структура рассказа в ее взаимодействии со сверхфразовой организацией текста. Основа для этого взаимодействия, естественно, обеспечивается характером сверхфразовых компонентов текста.
Согласно распространенному мнению, в норме единицы строевого и композиционно-стилистического аспектов должны взаимно соответствовать друг другу. Однако такое соответствие наблюдается далеко не всегда. Поэтому целесообразно будет сначала рассмотреть абзацное членение текста, а затем перейти к характеристике его строевых компонентов.
2.2.1. Для первой части, повествующей о том далеком сентябрьском вечере 1914 года, который стал для героини ее единственным настоящим, характерна явная внутренняя расчлененность — в противоположность II части рассказа. Это проявляется уже в абзацном членении: даже если не считать отступов, оформляющих диалогические реплики, в I части насчитывается 14 "красных строк" (вместе с абсолютным началом текста). Правда, если учесть, что в бунинском тексте, в полном соответствии с издательско-типографским каноном, пунктуационное оформление диалогической реплики предполагает и обязательный абзацный отступ, сопровождающий следующее за репликой продолжение авторского повествования, то придется указанное количество (14) сократить до трех. Однако ясно, что многие из абзацных отступов, следующих за диалогическими репликами, на деле маркируют не только переход к авторскому повествованию, но также и переход к следующему структурному компоненту текста (это верно, по крайней мере, для четырех абзацев, начинающихся словами: На Петров день...; Мы в тот вечер...; Мама встала...; Одевшись, мы прошли...). Три и четыре — семь "подлинных" абзацных отступов в I части, повествующей о непродолжительном отрезке времени, и единственный абзац, в котором заключена вся II часть, охватывающая три десятилетия жизни героини, — соотношение весьма показательное.
Отношение к такой противоречивой категории, как абзац, в современной лингвистике неоднозначно. Но даже это не снимает показательности указанного соотношения (7 : 1), ибо оно в любом случае отражает прерывистость интонационного рисунка I части и противоположное качество интонационного рисунка II части.
Это же соотношение может быть интерпретировано и как свидетельство глубоких различий в ритмической организации сопоставляемых фрагментов текста. Предположение о различности ритма I и II частей подтверждается самим текстом. Достаточно обратить внимание на характер движения чувств героини и коннотативной семантики (коннотации, естественно, принадлежат той же героине) внутри большинства абзацев I части. Это, как правило, движение от счастливых переживаний — к горестным, к предчувствию трагедии, движение от положительной коннотативной доминанты (которой сопровождаются упоминания о природе — неизменно прекрасной, — об искусстве, об идеализируемом прошлом) — к доминанте отрицательной, сопровождающей всякое напоминание о приближающейся разлуке. Первый абзац рассказа начинается сообщением о том, что будущий жених героини в июне 1914 года гостил в имении ее родителей, — заканчивается заключением о неизбежности войны. Следующий абзац начинается фразой о том, что молодые люди объявлены женихом и невестой, — заканчивается известием об объявлении войны. Абзац "Мы в тот вечер..." начинается как неторопливый рассказ о прощальном вечере, о настроении его четырех участников: рассказчица как будто оттягивает момент прощания; но описание и настроения, и звезд за окном, и занятий отца и матери (как бы подчеркнуто привычных, домашних) все-таки в этом же абзаце переходит в передачу разговора о завтрашнем отъезде героя. Сходная картина наблюдается практически во всех абзацах I части.
Эта внутренняя пульсация оценок свидетельствует о стремлении героини-рассказчицы воссоздать картину последнего лета и последнего вечера по возможности более полно, чего в помине нет во второй части. Вектор изменения оценки во всех случаях совпадает с общим вектором оценки прошлого и настоящего, закрепленным в хронологической основе центрального сюжета рассказа. Но тем более важно, что в I части рассказчица все время как бы отталкивается от этого вектора, сопротивляется неумолимому движению к катастрофе, упрямо возвращаясь к тому, что связано для нее с положительной коннотацией, с ощущением счастья, а не распада. Сопротивление (возможно, инстинктивное, но и психологически вполне понятное) — это своего рода психологическое основание внутренней пульсации оценок в I части рассказа. Но есть и философское: лето 1914 года осознается героиней как, может быть, самое горькое в ее жизни, но и самое прекрасное; равным образом и прощальный вечер — неизгладимо горек, но и недостижимо прекрасен. (С этим, кстати, связана ощутимая, хотя и не подчеркиваемая, эстетизация всего описываемого в I части.) Пульсация оценок, таким образом, создает ощущение подлинной жизни, той, которая — традиционно для русской литературы — только и имеет право называться жизнью.
Внутренняя пульсация оценок становится основой особого ритма I части рассказа: прерывистого, с широкой амплитудой, воспринимаемого как живое, взволнованное дыхание. На поверхностном уровне средством выражения этого ритма (не единственным, но наиболее явным) оказывается абзацное членение. Излишне добавлять, что последнее, как выясняется, прямо связано с концептуальной основой произведения, особенно с тем положением, что для героини тот прощальный вечер — ее настоящая, подлинная жизнь.
Следует иметь в виду и то, что абзацное членение связано с движением сюжетного времени. В этом плане противопоставленность композиционных частей рассказа столь же ясна, сколь и в обсуждавшихся выше. В первой части дробность абзацного членения подчеркивает расчлененность "прошлого" сюжета на микроэпизоды, микрособытия; каждое из них обладает для рассказчицы определенной — неповторимой — значимостью, каждому из них отведена отдельная "ниша" в сюжетном времени и, соответственно, отдельное место в композиционной структуре. Во второй же части, где тоже можно выделить микрособытия, эпизоды (на самом деле, в масштабе реального времени, отнюдь не "микро-"), отдельность этих событий снимается тем, что значимость каждого из них оказывается для рассказчицы ничем не отличающейся от значимости предыдущего или последующего. В определенном смысле все они настолько одинаковы, что и сливаются в сознании рассказчицы в один сплошной поток: повествование о нем лишено внутренней пульсации оценок (монотонность ритмической организации), лишено выраженного композиционного членения на микроэпизоды (микрособытия) и заключено поэтому в один "сплошной" абзац.
2.2.2. Характер строевых сверхфразовых компонентов текста, как упоминалось… Продолжение »