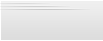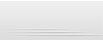Действительно, в I части наблюдаем несколько оформленных абзацами поликоммуникативных структурно-семантических единств, для каждого из которых характерно гармоническое соотношение содержания и формы. Это или сложные синтаксические целые (ССЦ), или предикативно-релятивный комплекс (ПРК — см. ниже).
Первые два абзаца ("В июле того года..." и "На Петров день...") содержат два ССЦ, каждое из которых может считаться таковым на основании целого ряда признаков:
1) Наличие собственной микротемы (содержание обоих ССЦ концентрируется вокруг определенных сюжетных событий — убийства Фердинанда, которое означало неизбежность войны, и объявления войны).
2) Микротема реализуется в четко обозначенных временных границах (в обоих случаях темпоральные детерминанты выступают в качестве традиционного "твердого" начала ССЦ, их семантический "радиус действия" (Ильенко 1989) действителен на всем протяжении ССЦ).
3) Микротема реализуется в пределах отчетливо выраженной логической структуры; не вдаваясь в обсуждение тонкостей фигур (что для наших задач излишне), отметим, что в обоих случаях перед нами неполные структуры умозаключений, представленные тезисами и антитезисами, которые, в свою очередь, также представляют собой свернутые умозаключения; синтезирующие суждения остаются вербально не выраженными. Итоговое синтезирующее суждение второго ССЦ (вывод о невозможности счастья для героев) можно считать подтекстовым, так как последовательное повторение одной и той же логической структуры с однотипным содержательным наполнением вполне может рассматриваться как один из специфически текстовых приемов импликации. В первом ССЦ, впрочем, логическая антитеза явлена не столь отчетливо, сколь во втором; однако сущность та же, и это становится очевидно именно по прочтении второго ССЦ, когда его ярко выявленная логическая структура (Но) как бы проецируется на первое, высвечивает в нем те же структурные элементы и в итоге заставляет читателя домыслить те же отношения между ними.
4) Реализация микротемы в данном логическом ключе обеспечивается структурно-семантическим единством, складывающимся, в свою очередь, из следующих компонентов:
а) интегральная семантическая структура в обоих ССЦ отвечает формуле Т — А, где Т — время, А — действие, событие;
б) сквозной характер элементов ИСС (Т и А) поддерживается тема-рематической перспективой: в обоих ССЦ семантические элементы Т закреплены на тематической вертикали (темы высказываний), элементы А — на рематической вертикали;
в) конструктивно-синтаксически сквозной актант Т выражен темпоральными детерминантами, сквозной предикат А — предикативными группами, ядерные модели которых варьируются в зависимости от конкретных семантических условий, однако далеко от основной модели, имеющей событийное значение, не отходят.
5) Каждое ССЦ обладает единым модальным планом, который образуется, во-первых, объективно-модальными компонентами, формирующими (пока еще исподволь) коммуникативную ситуацию вспоминания, во-вторых, субъективно-модальными, в частности, коннотативно-оценочными; о тех и других выше уже говорилось.
6) Наконец, в каждом из рассматриваемых фрагментов обнаруживается традиционный для ССЦ комплекс средств локальной связности, перечень которых был приведен выше.
Сходным образом может быть рассмотрено ССЦ, заключенное в абзаце Утром он уехал... В некоторых аспектах оно отлично от двух первых (иной логический субстрат, иная модель структурно-семантической организации), однако все признаки ССЦ и здесь налицо: и наличие собственной микротемы, и четкая временная отнесенность, и наличие логической структуры, и структурно-семантическое единство, и единство модального плана, и комплекс средств локальной связности.
И первые два, и последнее ССЦ первой части рассказа очень близки по модальному плану и по концептуально значимому смыслу. Последний во всех трех ССЦ связан с невозможностью счастья, с постепенным осознанием этого и утратой надежды. Движение от первых мрачных предчувствий до явного отчаяния при сопоставлении этих трех фрагментов очевидно. То, что в первых двух ССЦ лишь угадывается в коннотативных элементах семантики, в последнем ССЦ получает уже вербальное выражение: ...мы перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием.
Однако центральное место в I части занимает сравнительно протяженный фрагмент, посвященный описанию прощального вечера, от слов В сентябре он приехал... до слов Я горько заплакала.... Наиболее адекватной представляется квалификация этого фрагмента как предикативно-релятивного комплекса (ПРК; см. Баталова 1977, Гальперин 1981). С одной стороны, внутри этого фрагмента могут быть выделены (пусть и с известной долей условности) относительно завершенные отрезки — ССЦ или монологического типа, или представленные диалогическими единствами. С другой стороны, они настолько тесно взаимосвязаны, так плавно перетекают одно в другое, что внутренняя расчлененность не мешает восприятию фрагмента как единого целого. Кроме того, здесь несомненна определенная иерархия компонентов: первый из них, заключенный в первом абзаце фрагмента (В октябре он приехал...), содержит вводящую фразу, которой предвосхищается все последующее: И вот настал наш прощальный вечер.
Есть еще один признак, свидетельствующий в пользу квалификации этого фрагмента как ПРК. Общая сигнификативная ситуация, отображаемая предикативно-релятивным комплексом, подвергается расчленению на ряд ситуаций низшего ранга, описываемых, соответственно, и единицами низшего ранга. Однако любое подобное расчленение не безусловно: всегда могут обнаружиться явления переходности, когда невозможно однозначно утверждать, одна или две ситуации перед нами, если исходить исключительно из содержательного критерия, а текстовое оформление не проясняет сомнений. В подобных случаях прийти к однозначному решению бывает невозможно. Именно таким представляется нам фрагмент от слов Одевшись, мы прошли... до конца рассматриваемого ПРК. С одной стороны, внутри этого фрагмента очевидно смысловое движение, приводящее к кульминационной точке повествования о последнем вечере, — можно даже различить ступени подъема к кульминации:
I — начало прогулки;
II — оценка героем происходящего («Буду жив...»), впервые в рассказе столь резко обнажающая подлинный смысл и значимость этого вечера для героев, масштаб и остроту их переживаний;
III — поцелуй, упоминание о котором в этом месте не только не случайно, но и символично; и наконец —
IV — главный вопрос, задаваемый героине женихом, вопрос, на котором держится весь рассказ, в котором сходятся все смысловые нити рассказа.
С другой стороны, выявить структурно обособленные сверхфразовые компоненты, оформляющие эти ступени, затруднительно.
Итак, рассматриваемый ПРК может быть представлен как система, состоящая из последовательности элементов:
1) начальное — предикативное — ССЦ-1, включающее два высказывания: В сентябре он приехал... и И вот настал..., второе из которых может считаться одновременно и первым высказыванием следующего ССЦ;
2) ССЦ-2, включающее пограничное высказывание И вот настал... и конструкцию с прямой речью (КПР);
3) ССЦ-3, начинающееся фразой Мы в тот вечер...;
4) ССЦ-4, представленное комбинацией конструкций с прямой речью и монологического высказывания авторской речи: Отец спросил...;
5) ССЦ-5, представленное аналогичной комбинацией: Оставшись одни...;
6) ССЦ-6, также представленное комбинацией КПР и диалогических единств: Одеваясь в прихожей...;
7) ССЦ-7, тоже комбинированное, от слов Одевшись, мы прошли... до последней фразы ПРК Я горько заплакала... и не поддающееся более дробному членению.
Предложенный вариант членения, безусловно, не является единственно возможным. Можно, например, предвидеть возражения, связанные с тем, что не все сверхфразовые границы совпадают с абзацными отступами, хотя подобное совпадение как будто не считается обязательным признаком строевого сверхфразового компонента текста. Справедливы были бы и сомнения в адекватности квалификации ССЦ-7.
Целесообразность предложенного варианта видится в том, что в нем все же учитывались, насколько это позволяет текст, как содержательный, так и формальный критерии. Под содержательным критерием здесь имеется в виду функционально- смысловая дифференциация выделяемых элементов: каждому из них, как кажется, отведена в тексте своя, особая роль, каждый несет определенный концептуально значимый смысл.
Формальным критерием в данном случае послужили, во-первых, абзацные отступы — там, где они имеют соответствующее содержательное обеспечение, во-вторых, известные формальные признаки, в частности — инициальные словоформы, которые по своей морфологической природе имеют потенциальное временное значение и в которых это потенциальное значение актуализировано контекстом. Речь идет о деепричастиях, которые, по сути, выполняют в пределах данного ПРК функцию темпоральных маркеров — детерминантов, что, кстати, довольно типично для текстовых фрагментов с тесной внутренней взаимосвязью сверхфразовых компонентов. В самом деле, общая локализация описываемых событий во времени уже известна; повествователь строго придерживается их естественного хода; в подобном контексте дополнительная фиксация мелких временных отрезков, разделяющих события, была бы уместна в динамическом повествовании; но в данном случае перед повествователем (и автором) совершенно иные задачи, и оказывается, что вполне достаточно не прямой фиксации временных отрезков, а просто указаний на смену ситуативного фона (статального — Оставшись одни...; акционального — Одевшись..., Одеваясь..., Поцеловав...). Показательно, что здесь начинают играть особую роль видовые различия (одеваясь — одевшись) и некоторые другие грамматические категории, например категория синтаксической модальности: чтобы... поцеловал (ирреальная) — Поцеловав (реальная). Коль скоро в принципе активизируется роль грамматической (а не лексической) семантики в движении текста, активизируются и более тонкие грамматические различия, далеко не всегда прямо участвующие в текстообразовании.
Аргументом в пользу предложенного варианта членения может служить то, что содержательный и формальный критерии во многих случаях дали совпавший результат (ССЦ-5, ССЦ-6, ССЦ-7 и др.), и только в одном случае членение с формальной точки зрения возможно, но — с учетом содержательного критерия — проблематично: слишком уж тесно взаимосвязаны высказывания Я отвела от лица... чтобы он поцеловал меня и Поцеловав, он..., хотя даже в содержательном плане они должны принадлежать, как указывалось выше, к разным «ступеням» подъема к кульминации.
Общая концептуальная наполненность данного ПРК определяется вектором развития повествования, неудержимо стремящегося к драматической кульминации, на которой все и обрывается: развязки как таковой здесь (то есть именно в данном повествовании о прощальном вечере), в сущности, нет. Повествователь, таким образом, отнюдь не ставит перед собой задачи полного описания прощального вечера. Можно указать на две основные цели, которые действительно достигаются в рассматриваемом ПРК:
1) Чем ближе к кульминации, тем ближе к "тайным мыслям и чувствам", которые поначалу, по признанию повествователя, скрывались за "незначительными", "преувеличенно спокойными" словами. В кульминационной точке и мысли, и чувства предельно обнажены, все названо подлинными именами. В этом смысле данный ПРК оказывается необходимым звеном между первыми двумя и последним ССЦ I части рассказа, между предчувствием катастрофы и реальным ее началом.
2) В отличие от абсолютно всех других компонентов сюжетной структуры, в повествовании о прощальном вечере можно отметить преобладание положительной коннотативно-оценочной доминанты. Именно здесь перед нами, несмотря на скупость изобразительных средств, — жизнь, настоящая, насыщенная подлинными чувствами, пронизанная памятью, одухотворенная вековой культурной традицией. Не случайно герой вспоминает стихи именно А.А.Фета: значительная часть его творений навеяна именно жизнью русских дворянских гнезд, о чем вспоминает в своей известной книге и Т.А.Кузминская[99]. Уникальная русская культура XVIII — ХIХ вв. обязана своим существованием не только Петербургу и Москве, но и — в той же, если не в большей мере — дворянским гнездам, обеспечивавшим ей устойчивость, многослойный и крайне важный культурно-бытовой фон и мн. др. Как видим, за одним лишь упоминанием стихов Фета в содержание рассказа косвенно входит целая культурная парадигма.
Таким образом, данный ПРК занимает центральное место не только в I части, но и в структуре рассказа в целом. Именно к нему автор будет заставлять читателя неоднократно возвращаться, поскольку исключительно в нем и для повествователя, и для автора сосредоточены подлинные ценности, делающие жизнь жизнью и придающие ей не только смысл, но и, как выясняется, удивительную устойчивость и силу. Истреблены, искажены до неузнаваемости ее формы, но дух ее — жив.
Вся вторая композиционная часть рассказа, оформленная одним абзацем, в структурном плане представляет собой весьма специфическое образование, для обозначения которого мы используем термин линейно-синтаксическая цепь (ЛСЦ). Внешнее оформление находится здесь в полном соответствии с внутренней организацией. Поскольку разбор этого фрагмента приведен выше (гл. I, п. 3.7), ограничимся здесь повторением главного вывода. Линейно-синтаксическая цепь (а не сложное синтаксическое целое или более сложная, но гармоничная конфигурация единиц регулярного типа) оказывается формой, точнее всего реализующей интенцию бунинской героини-повествовательницы: рассказывая об этой части своей жизни, она на самом деле, скорее, доказывает мысль о неизбежности распада, о тяготеющем над ее судьбой Роке — поэтому ни одно событие и не становится центром гармонично организованного содружества предложений, поэтому на месте противительных союзов оказываются соединительные, поэтому даже господство хронологического субстрата не приводит к использованию стройной системы темпоральных маркеров — детерминантов, и т.д.
И.А.Бунин в "Темных аллеях", и в частности в "Холодной осени", довольно резко противоречит классической философской парадигме социально-психологического детерминизма, столь глубоко разработанного русской литературой ХIХ века. Жизнь случайна и незакономерна, человек, скорее, ее жертва, нежели хозяин. Другое дело, что достоинство человека (в том числе и в "Холодной осени") измеряется степенью несмирения с положением жертвы — в этом плане Бунин продолжает гуманистическую традицию русской классики. Но сама индетерминистская основа философской концепции, которую мы попытались декодировать, читая "Холодную осень", сближает творчество И.А.Бунина, и весьма заметно, с европейскими философскими парадигмами середины ХХ века.
3. Композиция и сверхфразовый уровень организации текста рассказа В.С.Маканина "Страж"[100]
3.1. Общая характеристика композиции и сверхфразовой организации текста
Рассказ Владимира Маканина отличается некоторой загадочностью смысла, причудливой композицией, широким использованием внешних знаков композиционного членения текста.
Рассказ написан от 1-го лица. Это позволяет воспринимать его как живое повествование и сближает с "Холодной осенью" И.А.Бунина. Но если в "Холодной осени" заметен эффект континуальности повествования, как мы его назвали, то в рассказе "Страж" мы наблюдаем противоположное. Он состоит из девяти "главок", никак не пронумерованных и не отмеченных, но отчетливо отделенных друг от друга отбивками. На первый взгляд кажется, что эта отделенность ничего не значит, так как почти все первые фразы главок (будем и в дальнейшем пользоваться этим полутермином) демонстрируют явную и тесную связанность с предшествующим контекстом (ср.: Могло случиться, что он (кто?) сегодня же раскается (в чем?); То есть предполагалось, что я моему младшему брату в этот период и мать и отец; Я действительно считал дни). Однако связанность эта обманчива, ибо носит формальный характер — в том смысле, что если исходить из содержательно-тематического своеобразия каждой главки, то тесная смысловая взаимосвязанность соседних весьма относительна и даже необязательна. Каждая из главок обладает собственным смысловым заданием: это или оформление элемента внешнесобытийной сюжетной структуры (эпизода), или словесное воплощение очередного этапа размышлений героя-повествователя о рассказываемой истории. К первой группе относятся главки — присвоим им для удобства номера — 1, 2, 4, 8, 9; ко второй — 5, б, 7. Это разделение не безусловно, так как некоторые из них совмещают и то, и другое содержание, что неудивительно, ибо весь рассказ в целом представляет собой более размышление, нежели просто повествование о давней истории; однако в данном случае важен прежде всего факт смысловой специализации каждой главки, а она несомненна.
Показательный пример совмещения обеих композиционных функций являет 3-я главка рассказа. Ее положение — особое, поскольку в ней впервые обозначается подлинная тема рассказа и завязывается главный конфликт. Действительно, в рассказе В.Маканина, так же как в "Холодной осени" И.А.Бунина, не один сюжет, или не один уровень сюжета. Внешнесобытийный уровень построен на известном с библейских времен мотиве блудного сына; конфликт на этом уровне вполне прозрачен: нарушено исходное равновесное состояние, возникла неизвестность, неопределенность, задеты чувства нескольких людей, в том числе самолюбие рассказчика, — и конфликт этот разрешается (или в основном разрешается) уже в 4-й главке, когда беглый брат возвращается. Второй, глубинный, уровень сюжета построен на внутреннем конфликте, переживаемом героем-повествователем, и это конфликт между привычными, общепринятыми стереотипами поведения, навязываемыми герою как окружением, так и его собственным опытом, с одной стороны, и его неожиданно проснувшимся стремлением вырваться за рамки этих стереотипов — с другой. Герой, в сущности, пытается найти такое свое поведение, которое соответствовало бы его собственным понятиям о человечности, а не общепринятым и весьма формальным, — конфликт, по-видимому, столь же типичный, сколь и неразрешимый для "серединного" человека (Л.Аннинский). Этот конфликт и обозначен в рассказе противопоставлением двух значений слова страж (сторож). Первое — 'лицо, охраняющее что-то' (МАС) — слову страж, как несколько устаревшему, стилистически отмеченному, менее свойственно и в конце концов закрепляется за словом сторож; второе — 'тот, кто охраняет, защищает кого-либо, хранитель, защитник' (МАС), 'невидимый хранитель', 'добрый гений' — остается за словом страж. Однако поначалу слово страж употребляется амбивалентно — ведь и хронологически героем осознается разница между двумя значениями не сразу, лишь после того, как ее почти сформулировал муж сестры — детский писатель.
Третья главка повествует о размышлениях героя по поводу случившегося, которые и приводят его к решению, являющемуся элементом внешнесобытийной сюжетной структуры: И тогда я решил, что сторожем своему родному брату я отныне не буду. Доказательством того, что это решение является элементом внешнесобытийного уровня сюжета, служит тот факт, что процитированная фраза включается в диалог, она, таким образом, должна восприниматься и как резюме размышлений героя, и как его реплика, адресованная жене. Именно здесь и происходит совмещение композиционных функций третьей главки, и в центре внимания оказывается семантика ключевого слова: негативную оценочную коннотацию получает значение, закрепляемое за паронимом сторож, и, следовательно, все готово для формирования второго члена семантической оппозиции в сознании героя, что и произойдет в следующей главке.
Итак, каждая главка является самостоятельным элементом композиционной структуры рассказа и обладает смысловой специализацией и определенной композиционной функцией. Показателем этого служат отбивки, разделяющие части рассказа. Однако это лишь одна функция отбивок: ее можно назвать структурно-смысловой. Вторая их функция — эстетическая (художественная). Рассказ, как уже говорилось, представляет собой не столько повествование о давней истории, сколько размышление о ней. Из этого следует, что сюжет формируется взаимодействием двух линий, двух субстратов: первый — фабула истории, послужившей поводом к размышлению; второй — логический субстрат. О том, что второй доминирует над первым, свидетельствует хотя бы то, что некоторые главки рассказа, подчиненные, казалось бы, фабульной линии, все же содержат элементы размышления, не говоря уже о других, подчиненных исключительно линии логической. Особенно важную роль играют микротематические повторы; их в рассказе довольно много (например, мотив подсчета количества дней, которые брат может "продержаться", повторяется не меньше трех раз: гл. 1-я, 4-я; мотив неожиданного для героя молчания брата после возвращения — дважды: гл. 7-я, 8-я; размышления о "денежном вопросе", который "особенно мучил" героя, — тоже дважды: гл. 6-я, 7-я). Эти повторы формируют особую интонацию рассказа и полностью исключают возможность интерпретации его как обычного повествования. Это, скорее, имитация спонтанной речи, может быть, внутреннего монолога-размышления (не случайно и в синтаксисе, и в лексике и фразеологии рассказа заметны явно сказовые элементы — разговорность, эллипсис, парцелляция, сниженность и пр.). Указанные микротематические повторы — едва ли не главное средство формирования качества сказовости на сверхфразовом и композиционном уровнях. Именно эти повторы наводят на мысль о том, что на самом деле внутренний монолог героя намного протяженнее, объемнее, нежели собственно текст рассказа. Существующие девять главок — это лишь островки, вершины сложного и разветвленного подводного ландшафта. Маршрут героя, путешествующего "под водой" и лишь изредка выбирающегося на сушу, известен лишь отчасти: именно в той мере, в какой сюжет подчинен фабульной линии, ведь до конца истории как-то добраться необходимо. Но очень часто "островок", на который выбирается герой, оказывается уже посещенным — только в прошлый раз герой выбирался на него с другой стороны. Самый яркий пример такого "повторного островка" — 7-я главка.
Если со всем этим согласиться, то упомянутая эстетическая функция отбивки в тексте рассказа "Страж" может быть определена как отображение "провалов" во внутреннем монологе героя-повествователя, вернее, отображение фрагментов (иногда значительных) внутреннего монолога, не выведенных на поверхностный уровень текста.
Обратимся к композиции рассказа с тем, чтобы, охарактеризовав ее, выяснить ее отношение к сверхфразовой организации текста.
В целом композиция рассказа подчинена не столько традиционной задаче развертывания сюжета, сколько задаче запутывания сюжета — вернее, даже запутывания в сюжете, идее лабиринта. Сюжет рассказа, как говорилось, состоит в том, что герой пытается разобраться в давней истории, нащупать ниточки, ухватившись за которые можно распутать клубок, но безрезультатно. Композиционная структура и отображает блуждания героя по лабиринту. При этом развертывание двух сюжетов, или двух уровней сюжета, подчинено различным закономерностям. Внешнесобытийный уровень развивается более или менее поступательно, в соответствии с фабулой истории и с традиционной логикой построения сюжета: здесь имеется завязка (1-я главка), экспозиция (которая, впрочем, не занимает самостоятельного положения, а дается как бы постфактум, растворенной в тексте 1-й и 2-й главок), кульминация, каковой можно считать описание ситуации "считания дней" (вторая половина 3-й и первая половина 4-й главок), наконец, развязка — возвращение брата (вторая половина 4-й главки) и его благополучный отъезд домой (8-я — 9-я главки). Совсем иначе строится глубинный уровень сюжета. Завязка конфликта, на котором он построен, приходится, как уже говорилось, на 3-ю главку и совпадает с кульминацией внешнесобытийной сюжетной структуры. Можно считать, что экспозицией к этому сюжетному уровню служит весь внешнесобытийный уровень. Но даже при таком подходе остальных необходимых структурных компонентов сюжета мы здесь не обнаружим. Невозможно указать, в какой момент развитие конфликта достигает кульминации — любое такое указание будет носить произвольный характер; невозможно найти и развязку конфликта: ее нет, как нет и надежды на выход из лабиринта. Структурно-композиционным воплощением этой последней идеи и представляются все главки, начиная с 4-й (то есть после завязки глубинного конфликта), в их последовательности.
Рассмотрим это чуть подробнее. 4-я главка состоит из двух частей. В первой из них достигает кульминации развитие "внешнего" конфликта, давление на героя (и его самолюбие) становится максимальным; к фактору неизвестности, к позиции жены добавляется еще и позиция двоюродной сестры. Характерно, однако, что здесь же наступает и развязка: герой-повествователь как будто даже спешит с ней, вовсе не задаваясь целью сколько-нибудь полно описать все тринадцать дней мучительного ожидания, не это его интересует. Важно другое: брат вернулся, но сущностная составляющая неизвестности, мучившей героя, остается нераскрытой. Ни причин побега, ни хоть каких-либо деталей о месте пребывания и занятиях брата в эти тринадцать дней узнать герою не удается. Внутренний конфликт не только не разрешается, он, пожалуй, становится более напряженным.
Пятая главка буквально взвинчивает это напряжение. В самом деле: герой отыскивает в своей памяти ключ, или хотя бы подобие ключа, к необычному поведению младшего брата. Оказывается, тот с детских лет был замечен в не совсем стандартном мировосприятии и совсем нестандартном поведении. Более того, уже тогда его нетривиальные поступки могли заставить и старшего брата делать то, что, по мнению окружающих, было ненормально: Я дергал за рукава мальчишек и спрашивал, где мой брат. Все смотрели на меня, как на ненормального, — о чем можно было сейчас спрашивать? Толпа ревела. Сейчас можно было спрашивать, какой счет и в чью пользу. Но найденный, казалось бы, ключ герой рассказа тут же и отбрасывает. Логика его, если вдуматься, дика и непостижима (см. последний абзац этой главки). Если бы младший брат в свои восемнадцать стал гением, а еще лучше — подтвердил, закрепил мнение о своей гениальности ранней смертью[101], это оправдало бы любые его странности. Такова посылка; следствие словами не выражено — видимо, потому, что оно очевидно: *...но брат гением не стал (более того, даже в институт не смог поступить), следовательно, его странностям оправдания нет. Обыкновенный человек должен вести себя обыкновенно, никакого права на свое собственное, самобытное поведение, на отклонение от нормы и т.д. он не имеет. Вернее, некоторые отклонения в качестве вариантов даже заложены в норму, но в строго дозированном, в зависимости от возраста, положения, степени талантливости и т.п., объеме ("Богу богово, кесарю кесарево", "Что позволено Юпитеру..." и т. д.). В этом — одно из важнейших отличительных качеств психологии "серединного" человека.
Позволим себе еще одно попутное замечание. Странное, подчас необъяснимое поведение героя — один из распространенных сюжетообразующих мотивов западной литературы ХХ в., в частности американской. Целую россыпь вариаций на эту тему можно встретить, например, у Дж.Д.Сэлинджера, особенно в его "Девяти рассказах". Однако немыслимо встретить в этих произведениях оценку, подобную той, которая представляется столь естественной герою маканинского рассказа.
Итак, герой отказывает своему брату в праве на странности, не подозревая, что тем самым он выбрасывает единственный ключ от лабиринта. Между тем он вовсе не намерен прекратить попытки добраться до истины; конфликт становится все более напряженным; чем больше неудачных попыток — тем ближе к отчаянию. Каждая следующая главка — это такая неудачная попытка, и ни одна из них к развязке конфликта не приблизит. Герой-повествователь уже это знает: потому-то так пренебрежительно-ироничен он по отношению к собственным предположениям и размышлениям (ср. концовку рассмотренного фрагмента: Я всем бы говорил, что гениальность-то можно было предвидеть. Что уже в детстве он искал свой путь. Был сам по себе. Был вдали от шумной толпы. Ну и так далее).
В 6-й главке герой излагает свое представление о жизни брата "в бегах". Понятно, что достоверность подобных упражнений тем выше, чем лучше знание другого человека, и что, наоборот, чем меньше это знание, тем вероятнее подмена психологии другого человека своей собственной. Злая ирония, однако, состоит в том, что герой полагает, будто весьма хорошо знаком со своим братом, хотя упомянутая подмена налицо. Она становится особенно очевидной, если обратить внимание на текстуальные повторы. Один из них связан с "цыганской темой": она впервые в рассказе возникает при описании Курского вокзала "в то время", и внимательный читатель, привыкший исходить из постулата абсолютной целесообразности и уместности любого элемента художественного текста, возможно, даже несколько недоумевает, не обнаруживая в контексте подтверждения необходимости такого внимания к вокзалу и, тем более, к цыганам (1-я главка). В 6-й главке ружье, наконец, стреляет, но явно не в цель: расшифровывая свою собственную фразу о цыганах (причем в откровенно прагматическом ключе), герой совершенно безосновательно вкладывает ее в уста брата. Это неопровержимо доказывает, что герой непроизвольно подменяет сознание и психологию брата своими собственными. Это тем более очевидно, когда герой представляет, как брат, "быть может", говорит о нем как о невидимом, ненавязчивом, но верном "страже", почти повторяя слова детского писателя. Следовательно, и все остальное представляемое героем столь же недостоверно и нисколько не приближает его к истине. Конфликт нарастает.
Седьмая главка выше уже была названа "повторным островком". Возвращаясь к "денежному вопросу" брата и Вики, герой в очередной раз оказывается перед необъяснимым противоречием между длительностью срока отсутствия брата и явно недостаточным для такого срока количеством денег. И снова герой в своем представлении "заставляет" брата жить так, как тот, скорее всего, никогда и не думал жить; снова та же подмена чужого сознания и психологии своими — и снова тот же неутешительный результат. Секрет остается нераскрытым: о том, "как оно было на самом деле", брат молчит.
В 8-й главке можно заметить черты кульминационного момента. Взлет напряжения запрограммирован уже ситуативным повтором: читатель вправе ожидать, что, раз уж вновь описывается та же ситуация (можно ведь было и просто сообщить; наутро, мол, я его отправил домой, и все было благополучно), то что-то из этого воспоследует: или брат снова сбежит, или совпадение заставит его, наконец, разговориться. Герой, кстати, и сам не особенно скрывает, что втайне ожидает чего-то подобного, точнее, не скрывает разочарования от того, что ожидания не оправдываются: При этом я опять вынул двадцать пять рублей — я протянул ему, он взял. Он не улыбнулся, не отметил совпадения. Но в то же время он как будто спешит (как и раньше) снять напряжение этой фразой; потенциальная кульминация даже не начинает выстраиваться. Аналогичную ложную имитацию кульминационного момента встречаем и в начале последней, 9-й, главки: Когда я очнулся — брата рядом со мной не было. // Но я тут же увидел его. Автор, по сути, последовательно выстраивает в повествовании своего героя антикульминацию. Не только темп речи становится вялым; мотив какого-то энергетического спада воспроизводится и в развитии ситуации (На четыре часа мы как бы зависали в воздухе), и в лексическом решении фрагмента: хотел спать; смысла не имело; торчать здесь; ел вяло и скучно; вроде наелся; понятно, не действовал; позевывал; сморило; прикрыл глаза. Действительно, герой уже не впервые блуждает в лабиринте сюжета этой истории и заранее знает, что выхода снова не найдет. Накапливающаяся так долго энергия внутреннего конфликта, не находя выхода, в конце концов разряжается внутрь, подрывая самые основы повествования: это и есть антикульминация. Отсюда и апатия, и самоирония, особенно легко угадываемые в конце 8-й главки, ко