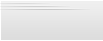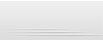Нельзя вернуть жизнь, но можно создать текст, который создаст иллюзию ее возвращения, а иллюзии нам часто дороже и нужнее реальности — Набокову эта мысль была, как известно, близка. Не исключено, между прочим, и еще одно толкование: весь рассказ — сочинение самого Чорба, который, скажем, так и остался в Ницце, и никуда физически не путешествовал в обратном направлении. Немудрено, что Келлеры никого в комнате не нашли... По отношению к рассказу в отдельности это может показаться натяжкой, но многозначительный финал, вкупе с написанным Набоковым позднее, к таким предположениям побуждает.
Что же до времени повествования, то оно поначалу совпадает с временем Келлеров, которое является опорным до того момента, пока не "пускаются" часы времени Чорба. С этого момента (8-й абзац) роль опоры берет на себя "физический компонент" времени Чорба, хотя сам этот компонент полностью вступает в свои права в следующем, 9-м, абзаце. При этом время повествования усложняет свою структуру: оно становится двулинейным, так как содержит две несовпадающие линии (Келлеров и Чорба), и двунаправленным, так как Чорб психологически движется в обратном направлении. Далее повествование строится так, что в том аспекте художественного времени, который аналогичен времени физическому, линии Чорба и Келлеров постоянно сближаются, в финале сливаясь; но решающий нюанс в том, что слияние оказывается мнимым, так как в психологическом аспекте художественного времени их линии направлены противоположно. Можно сказать и так: психологическое время Келлеров совпадает с их физическим временем, а у Чорба они противонаправлены, поэтому слияние невозможно. Чорб возвращается не в тот город, в котором живут нынешние, "весенние" Келлеры, а в тот осенний, в котором он и тогдашние Келлеры, возможно, еще не были знакомы.
Для времени повествования такое построение рассказа оборачивается постоянными скачками со всевозрастающей амплитудой: от опорного времени — к моменту гибели жены Чорба; затем — к времени свадебного путешествия: сначала зиме, затем осени; затем — к дню свадьбы; наконец — к дню накануне свадьбы. Если попытаться представить это движение времени повествования схематически, то можно получить примерно следующее (скачки по времени Чорба назад изображены стрелками под линией, скачки, возвращающие время повествования вперед, к опорному времени, — стрелками над линией):
|
|
|
|
|
Рис. 1
То есть, время повествования движется по принципу: из точки A в точку B, затем возвращается в точку C и проходит по прямой некоторый отрезок до точки D, затем из этой точки — в точку B', и т.д. Другими словами, время повествования то движется по лучу, совпадающему с вектором времени Келлеров и физического времени Чорба, то возвращается по этому лучу назад, подчиняясь движению психологического времени Чорба, и там, во вспоминаемом прошлом, проходит некоторый отрезок снова в направлении вектора физического времени, то возвращается вперед, в текущее физическое время Чорба / Келлеров.
Повторим: если на первый взгляд может показаться, что в основе темпоральной организации рассказа лежит постепенное сближение двух пересекающихся линий времени — Келлеров и Чорба, — то более внимательное изучение показывает, что такая вероятность этой темпоральной организацией отменяется: встреча невозможна, поэтому и не описывается.
9-й абзац, который выше приведен как пример 1.1.1, с точки зрения темпоральной организации текста важен прежде всего тем, что в нем пускаются часы физического времени Чорба. Речь идет о движении времени, так сказать, в реальном масштабе: это не произвольное скачкообразное движение по прихоти памяти, которое мы наблюдаем в 8-м абзаце и далее в 14-м (см.), а движение поступательное, плавное, без провалов. Переход к такому движению ярко маркирован 1-й фразой абзаца, фиксирующей момент отсчета: "Было около восьми часов вечера".
Этот абзац представляет собой один из наиболее цельных фрагментов во всем тексте. Лишенный событийного содержания, он целиком выдержан в одном композиционно-смысловом и одном функционально-смысловом типах речи — нечастый у Набокова случай чистого описания. Интересен, однако, вопрос: что, собственно, описывает здесь Набоков?
Ясно, что это описание строго подчинено задаче моделирования восприятия Чорба. Особенно точно передает его ощущения совершенно немыслимый порядок слов во втором случае. Это высказывание невозможно прочитать без характерной интонации: затянутого повышения тона на первой половине фразы, фразового ударения на слове "газетчик" с пропеванием узкого ударного гласного, падения тона на этом гласном и, что очень существенно, сохранения тона на этой высоте до самого конца фразы, без финального понижения (схематическое представление, разумеется, носит условный характер):
крикивал тот же га-
По- зетчик глухим вечерним голосом.
Если воспользоваться классификацией Е.А.Брызгуновой (Русская грамматика 1980), интонацию данной фразы придется интерпретировать как ИК-1, однако существенно модифицированную. Отличий от стандартной, нейтрально-повествовательной ИК-1 здесь два: отсутствие относительного понижения тона в заударной части первого слова, что и создает впечатление затянутого повышения тона на первой половине фразы, и принципиально важное сохранение высоты тона на постцентровой части (после слова "газетчик"). В целом интонация этой фразы создает впечатление беспросветной тоски.
Очевидно, что столь прихотливый интонационный рисунок возникает в силу особого коммуникативного устройства высказывания. На фоне двух обрамляющих его фраз становится особенно видна его изломанность: отрыв от сказуемого его состава и перенос последнего в финальную позицию обусловлен стремлением к рематизации обстоятельственного компонента; в итоге в высказывании с нулевой темой (опущен локальный детерминант, так как он уже присутствует в предыдущем высказывании) оказывается две ремы, причем связь второй ремы с первой внутри высказывания едва ли не слабее ее ассоциативной связи с ремами соседних высказываний. Но именно последнее и нужно Набокову. В трех из пяти предложений этого абзаца, благодаря упомянутому повтору и использованию лексики с отчетливо ощутимым оценочным компонентом (перекличка коннотаций), возникает тождественный смысл, явным образом корреспондирующий с третьим из выделенных нами в начале мотивов (отчужденность Чорба от мира). Более того, во втором предложении сквозит тот же оттенок смысла, подчеркнутый аллитерацией: образ чернеющей "на червонной полосе зари" башни собора вызывает побочную ассоциацию с прозрачностью воздуха, а прозрачность, в свою очередь, ассоциируется с холодом, который в системе координат европейца (в отличие, скажем, от жителя экваториального пояса) связан с негативной оценочной семантикой.
Скудость палитры в этом описании заслуживает отдельного упоминания. Использованы только красное (червонный) и черное, что само по себе может восприниматься как символ. Но дело не только в этом. В контексте рассказа такая бедность палитры резко контрастирует с многоцветьем других фрагментов: черный, белым, серебристо-серыми, бледновато-зеленые (8-й абзац); тускловато-белым, черной, желтели, цвета прозрачного винограда, рыжеватый оттенок, бархатная прозелень, розовых, сизый (14-й абзац). Без сомнения, все это связано с тем, что 9-й абзац, с одной стороны, и 8-й и 14-й, с другой, реализуют разные мотивы (см. табл. 5).
Последнее наблюдение позволяет сделать одно важное замечание. Выясняется, что мотивная структура рассказа может быть настолько гибка, что в одном случае возможно объединение всех ведущих мотивов в одном, так сказать, гипермотиве — и нерасчлененное изложение его в пределах одной ЛСЦ, одного абзаца; в других же случаях (и их, согласно табл. 5, довольно много) возможно вычленение одного мотива из "пучка" и подчинение ему отдельного сверхфразового компонента текста. Другие мотивы в этом последнем случае присутствуют лишь в качестве фона, сохраняемого читательской памятью. Впрочем, не только ею. Можно говорить и о своеобразной "памяти текста", которая заключается в индуцировании коннотативных значений: как только развертывание текста минует стадию введения основных мотивов (а эта стадия неизбежно тяготеет к началу, иначе целостность восприятия, да и многое другое, не обеспечить: в нашем случае это 8-й абзац), левый контекст превращается в своеобразный императив, довлеющий (в новом смысле этого слова) над текстом. Он диктует всему, что появляется в правом контексте, вполне определенные коннотативные значения и исключает другие — в зависимости от того, как соотносятся с уже введенными мотивами те или иные элементы. "Память текста" — одно из проявлений его онтологической системности, в этом смысле она аналогична тождеству аксиоматики в любой данной системе геометрических представлений или физической (ньютоновой, эйнштейнианской) картине мира.
Итак, перед нами, без сомнения, ССЦ: об этом свидетельствует и несомненное наличие интегральной семантической структуры (состояние локума в данный момент времени), и пронизывающее рематическую вертикаль тождество коннотативной семантики, и единство собственно рематической доминанты, и охватывающий характер хронотопических маркеров (первая фраза, эквивалентная темпоральному детерминанту, и локальный детерминант в инициальной позиции третьего высказывания), и, наконец, возможность превратить весь отрывок в одно сложное предложение:
*[1], и [2], а [3], и [4], и [5].
Однако роль этого ССЦ в тексте сказанным не исчерпывается. Помимо того, что в нем пускаются часы физического времени Чорба, и того, что оно прямо соотнесено с мотивом iii, оно существует на фоне других фрагментов текста, от которых сильно отличается. Эти отличия восходят к одной категории — категории субъекта повествования. Здесь мы подходим к одному из удивительнейших эффектов набоковского рассказа и — шире — стиля.
1.3.3. Две модели третьеличной формы повествования. Н.А.Кожевникова пишет: "...между субъектом речи и типом повествования существует двусторонняя связь. Не только субъект речи определяет речевое воплощение повествования, но и сами по себе формы речи вызывают с известной определенностью представления о субъекте, строят его образ" (Кожевникова 1994: 5). Именно вторая из названных Н.А.Кожевниковой возможностей реализуется в набоковском тексте.
До 9-го абзаца "бразды правления" крепко держал в своих руках анонимный и, в общем-то, почти нейтральный экзегетический повествователь: вполне традиционная третьеличная форма. Если что-то в этом повествовании и кажется не слишком традиционным, то это связано не с характером поведения повествователя. Любопытно, что все высказывания предыдущих восьми абзацев обязательно содержат в одной из актантных позиций (подлежащее, субъектное дополнение) номинации действующих персонажей: Келлеров, горничной, Чорба, его жены — или эквиваленты таковых (например, лицо Варвары Климовны вместо самой Варвары Климовны). Исключение составляют лишь три высказывания: 1) "В этом спокойном германском городе..." (1-й абзац); 2) "Все это было очень трудно" (7-й абзац); 3) "Вот только ночи были невыносимы" (8-й абзац). Но и они содержат в своей семантической структуре названные актанты: очевидно, что в двух последних неназванный актант — субъект ментального / психологического состояния (Чорб), в первом же, неопределенно-личном по конструкции, подразумевается, что именно Келлеры, поскольку они уже введены в повествование, вместе с другими слушателями были "накормлены музыкой до отвалу".
В 9-м же абзаце ни одно высказывание не содержит номинаций действующих лиц (!). В результате читатель вынужден решать дилемму: чьими глазами показана вокзальная площадь. Глаза повествователя в тексте уже "говорили", и не раз: именно они, например, видят Келлера — "старого коренастого немца, очень похожего на президента Крюгера", — сходящим "на панель, где при сером свете фонаря шевелились петлистые тени листьев"; таких примеров можно привести множество. Свое всеведение, для экзегетического повествователя традиционное, он также обнаруживал уже не раз (ср. хотя бы "Все это было очень трудно"). Но в данном случае ни тонкой акварельности описания, ни всеведения не обнаруживается; вдобавок — коннотативный ряд, о котором сказано уже достаточно и который очевидным образом не нейтрален. Именно эти соображения укрепляют мнение читателя о том, что площадь показана усталыми глазами Чорба, который, кстати, только что сюда приехал, о чем и сообщено в ближайшем левом контексте.
Таким образом, 9-й абзац вводит в текст вторую модель повествования. И та, и другая модели не выходят за пределы экзегетического типа; ни сказа, ни несобственно-авторской речи (по Е.В.Падучевой, свободного косвенного дискурса) здесь явно нет, поэтому целесообразно попытаться точнее обозначить различия между этими моделями. Как уже сказано, проблема разграничения двух замеченных повествовательных моделей в данном случае связана с категорией субъекта, средством обнаружения которой выступает ощутимое различие точек зрения: повествователя и персонажа. Н.А.Кожевникова в уже названной монографии посвятила "способам передачи точки зрения персонажа" особый раздел, в котором подробно рассмотрела разработанные классикой XIX в. средства: дейктические элементы (местоимения, наречия, частицы, существительные пространственной семантики), лексика с семантикой неопределенности или предположительности, оценочная лексика, приемы остранения, "удвоения обозначений" (персонажное + авторское), двойных описаний (Кожевникова 1994: 196—206). Этот аппарат позволяет в нашем случае обнаружить использование таких средств, как дейктические элементы (все те же, тот же, тот же) и оценочная лексика. Однако использование этих средств не является специфичным для 9-го абзаца: дейктические элементы и оценочная лексика не менее широко используются Набоковым и в предшествующих восьми (В этом спокойном германском городе, только теперь сообразил, вот такой именно смерти; то, что было, пожалуй, роковым прообразом, ее мнимое присутствие становилось вдруг страшным и мн. др.). Все дело в том, что передача точки зрения персонажа сама по себе еще не формирует типа повествования и может в самых разнообразных сочетаниях и дозах присутствовать во многих типах. Существенным, а иногда определяющим, оказывается соотношение этих сочетаний и "дозировок" в пределах данного конкретного текста. В "Возвращении Чорба" определяющим оказывается не наличие сигналов присутствия чужой точки зрения, ибо они широко представлены во всем тексте и не позволяют провести различие, а иное. Именно — то, назван или не назван персонаж, чьими глазами показывается художественная действительность. Модели, различающиеся подобным образом, Н.А.Кожевниковой не разбираются — видимо, потому, что ее обстоятельная монография описывает почти исключительно материал XIX в., лишь эпизодически затрагивая отдельные произведения начала XX в. Итак, введем особые обозначения применительно к анализируемому тексту.
Первую из двух моделей (1-й—8-й абзацы) можно назвать субъектно-неориентированным (нейтральным) повествованием, вторую — субъектно-ориентированным. Именно структурное отсутствие ориентации на воспроизведение (моделирование) восприятия, оценок и т.п. конкретного субъекта-персонажа влечет за собой последовательную и непрерывную представленность в контексте субъектно-неориентированного повествования словоформ с субъектным значением в актантных позициях. В этом случае единственным несменяемым субъектом остается повествователь, а появление в тексте тех или иных оценок, элементов, характерных для восприятия другого субъекта (персонажа), обязательно маркируется и не влечет превращения контекста в ориентированный на воспроизведение только одной (персонажной) точки зрения; передача чужой точки зрения при этих условиях не является структурно обязательной и в любой момент — по воле повествователя — может быть прекращена или заменена передачей точки зрения другого персонажа. Подобная повествовательная модель развивалась, например, Чеховым (об этом подробно пишет Н.А.Кожевникова) и для своего времени была, очевидно, новаторской. Но вторая половина 20-х гг. — совсем другая эпоха, и Набоков, именно в это время ищущий свой стиль, уже отталкивается от того, что было ново в 90-е годы.
В контексте же субъектно-ориентированного повествования представленность словоформ с субъектным значением в актантных позициях (имеется в виду субъект восприятия / описания / повествования) не просто излишня или факультативна: она исключена. Единственным условием (впрочем, очевидным) является заданность субъекта: в нашем случае эта заданность обеспечена левым контекстом и отсутствием сигналов смены субъекта. Позже развитие этой модели у Набокова приведет к минимизации даже заданности субъекта в левом контексте: сама по себе резкая смена характера контекста окажется средством вполне достаточным. Ср., например:
...дверь, правда, он (Лужин. — М.Д.) запирал на ключ, отпирал ее нехотя, после того как медная ручка много раз опускалась, — и отец, приходивший смотреть, что он делает в сырой нежилой комнате, находил сына, беспокойного и хмурого, с красными ушами; на столе лежали тома журнала, и Лужин-старший охвачен бывал подозрением, не ищет ли в них сын изображений голых женщин. "Зачем ты запираешь дверь? — спрашивал он (и маленький Лужин втягивал голову в плечи, с ужасающей ясностью представляя себе, как вот-вот, сейчас, отец заглянет под диван и найдет шахматы). — Тут прямо ледяной воздух. И что же интересного в этих старых журналах? Пойдем-ка посмотреть, нет ли красных грибов под елками".
Были красные грибы, были. К мокрой нежно-кирпичного цвета шапке прилипали хвойные иглы, иногда травинка оставляла на ней длинный тонкий след. Испод бывал дырявый, на нем сидел порою желтый слизень, — и с толстого пятнисто-серого корня Лужин-старший ножичком счищал мох и землю, прежде чем положить гриб в корзину. Сын шел за ним, отстав на пять-шесть шагов, заложив руки за спину, как старичок, и не только грибов не искал, но даже отказывался смотреть на те, которые с довольным кряканием откапывал отец." (Защита Лужина, 4) (1.3.3.1)
Здесь второй абзац маркирован резкой сменой тона повествования, и многочисленные детали описания, немыслимые ни в связи с Лужиным, ни в связи с его отцом, не оставляют сомнений в принадлежности восприятия третьему субъекту — повествователю, не названному, однако, ни в левом, ни в правом контексте. Еще один пример:
Его (Черносвитова. — М.Д.) мрачность, его плоские поговорки мнились Мартыну доказательством глубокой, но сдержанной ревности. На весь день уезжая по делам в Афины, он не мог не подозревать, что его жена проводит время наедине с тем добродушным, спокойным, но видавшим виды молодым человеком, каким воображал себя Мартын.
IX
Было очень тепло, очень пыльно. В кофейнях подавали крохотную чашку со сладкой черной бурдой в придачу к огромному стакану ледяной воды. На заборах вдоль пляжа трепались афиши с именем русской певицы. Электрический поезд, шедший в Афины, наполнял праздный голубой день легким гулом, и все стихало опять. Сонные домишки Афин напоминали баварский городок. Желтые горы вдали были чудесны. На Акрополе, среди мраморного мусора, дрожали на ветру бледные маки. Прямо среди улицы, как будто невзначай, начинались рельсы, стояли вагоны дачных поездов. В садах зрели апельсины. На пустыре великолепно росло несколько колонн; одна из них упала и сломалась в трех местах. Все это желтое, мраморное, разбитое уже переходило в ведение природы. Та же судьба ожидала в будущем новую до поры до времени гостиницу, где жил Мартын.
И стоя с Аллой на взморье, он с холодком восторга говорил себе, что находится в далеком, прекрасном краю, — какая приправа к влюбленности, какое блаженство стоять на ветру рядом со смеющейся растрепанной женщиной: яркую юбку то швырял, то прижимал ей к коленям ветер, наполнявший когда-то парус Улисса <...> (Подвиг, VIII—IX). (1.3.3.2)
Второй абзац в этом примере резко отличается от двух других отсутствием прямых средств выражения категории перцептуальности (С.Г.Ильенко — И.Н.Левина), за исключением глагола "напоминали": впрочем, этот глагол, с незаполненной позицией субъекта воспоминания, выглядит совершенно невинно на фоне столь сильных средств, как "мнились Мартыну", "воображал... Мартын", "он с холодком восторга говорил себе" (курсивом выделены заполненные субъектные позиции). Как почти все романы Набокова, "Подвиг" — роман с моногероем, практически весь мир романа откровенно дается его глазами, и доминирует субъектно-неориентированный тип повествования с выраженными указаниями на субъект восприятия. Поэтому любой (нечасто встречающийся) фрагмент с последовательным отсутствием таких сигналов оказывается на этом фоне маркированным и воспринимается как вторжение в повествование иного субъекта. Ни наличие в таких фрагментах сигналов воспринимаемости, ни оценочная лексика не перевешивают главного: мы их не замечаем, как не замечаем присутствия повествователя в субъектно-неориентированном повествовании; и так же, как в последнем случае явные приметы присутствия повествователя не мешают нам воспринимать контекст как "объективное повествование", — точно так же в субъектно-ориентированном повествовании отсутствие таких явных примет субъективности ведет к восприятию контекста как повествования "субъективного" (!). Парадокс в том, что маркированным в этом случае становится то, что — с материально-лингвистических позиций — никак (или почти никак) не маркировано: великолепный пример силы минус-приема. Так и в рассматриваемом примере: второй абзац написан так, что читатель вынужден допустить если не ориентированность его исключительно на фигуру повествователя (откуда бы Мартыну знать, как выглядят улицы баварских городков, если он задерживался с родителями только в Берлине [Пруссия] и выезжал из него не дальше Шарлоттенбурга?), то, во всяком случае, наложение двух воспринимающих сознаний: Мартына и повествователя, с доминированием последнего.
Еще один пример демонстрирует уже бесспорное наложение двух воспринимающих сознаний (Зины и Федора) — и тем не менее, повествование, в силу последовательной невыраженности субъекта, сохраняет, как и в предыдущих иллюстрациях, субъектно-ориентированный характер (начало соответствующего фрагмента отмечено знаком [*]):
В семье у себя она (Зина. — М.Д.) была несчастна и несчастье свое презирала. Презирала она и свою службу, даром что ее шеф был еврей, — немецкий, впрочем, еврей, то есть прежде всего — немец, так что она не стеснялась при Федоре его поносить. Она столь живо, столь горько, с таким образным отвращением рассказывала ему об этой адвокатской конторе, где уже два года служила, что он все видел и все обонял так, словно сам там бывал ежедневно. Аэр ее службы чем-то напоминал ему Диккенса (с поправкой, правда, на немецкий перевод), — полусумасшедший мир мрачных дылд и отталкивающих толстячков, каверзы, чернота теней, страшные носы, пыль, вонь и женские слезы. [*] Начиналось с темной, крутой, невероятно запущенной лестницы, которой вполне соответствовала зловещая ветхость помещения конторы, что не относилось лишь к кабинету главного адвоката, где жирные кресла и стеклянный стол-гигант резко отличались от обстановки прочих комнат. Канцелярская, большая, неказистая, с голыми, вздрагивающими окнами, задыхалась от нагромождения пыльной, грязной мебели, — особенно был страшен диван, тускло-багровый, с вылезшими пружинами, — ужасный и непристойный предмет, выброшенный, как на свалку, после постепенного прохождения через кабинеты всех трех директоров — Траума, Баума и Кэзебира. Стены были до потолка заставлены исполинскими регалами с грудой грубо-синих папок в каждом гнезде, высунувших длинные ярлыки, по которым иногда ползал голодный сутяжный клоп. У окон располагались четыре машинистки: одна — горбунья, жалование тратившая на платья, вторая — тоненькая, легкомысленного нрава, "на одном каблучке" (ее отца-мясника вспыльчивый сын убил мясничным крюком), третья — беззащитная девушка, медленно набиравшая приданое, и четвертая — замужняя, сдобная блондинка, с отражением собственной квартиры вместо души, трогательно рассказывавшая, как после дня духовного труда чувствует такую потребность отдохнуть на труде физическом, что, придя вечером домой, растворяет все окна и принимается с упоением стирать. <...> (Дар, III. Разрядка авторская. Цитированный фрагмент имеет протяженность свыше двух страниц.) (1.3.3.3)
Приведем, наконец, пример переходного случая, показывающий, вероятно, каким путем в рамках модели, которую мы назвали субъектно-неориентированной и которая первоначально представляла собой модель, реализующую субъектную сферу персонажа, формировалась модель, которую мы назвали субъектно-ориентированной. Таких примеров немало и у Набокова, но нам представляется более показательным использовать в качестве иллюстрации фрагмент из бунинского рассказа, хотя он и написан в 1940 г.:
Он (Петр. — М.Д.) постоял на крыльце, пошел по двору... И ночь какая-то странная. Широкий, пустой, светло освещенный высокой луной двор. Напротив сараи, крытые старой окаменевшей соломой, — скотный двор, каретный сарай, конюшни. За их крышами, на северном небосклоне, медленно расходятся таинственные ночные облака — снеговые мертвые горы. Над головой только легкие белые, и высокая луна алмазно слезится в них, то и дело выходит на темно-синие прогалины, на звездные глубины неба, и будто еще ярче озаряет крыши и двор. И все вокруг как-то странно в своем ночном существовании, отрешенном от всего человеческого, бесцельно сияющее. И странно еще потому, что будто в первый раз видит он весь этот ночной, лунный осенний мир... (Бунин, Таня) (1.3.3.4)
Здесь третье—седьмое высказывания фактически реализуют модель субъектно-ориентированного повествования, но окончательно сформированной ее в данном случае признать нельзя: этому мешают обрамляющие высказывания (первое, второе и последнее), которые, во-первых, содержат субъектные словоформы в актантных позициях (первое и восьмое), а во-вторых — демонстрируют как раз то, что называется несобственно-авторской речью (второе и восьмое).
Заключая характеристику двух моделей третьеличной формы повествования, отметим, что они образуют оппозицию, в которой первый член (субъектно-неориентированное повествование) является немаркированным, а второй — маркированным.
Введение в текст второй нарративной модели резко меняет характер повествования в целом. В полном соответствии с "законом Лотмана" о перемещении читательского внимания при известных условиях на рамку и код, этот шаг повествователя актуализирует присутствие последнего в тексте: вот почему у Набокова, который предусмотрел все и нигде себя-Автора не обнаружил, авторское присутствие ощущается несравненно сильнее, чем у Бунина. В этом и заключается упомянутый парадоксальный эффект.
Дальнейшее движение текста демонстрирует сосуществование двух моделей повествования, и очень скоро выясняется, что каждой из них отведена своя сфера: субъектно-ориентированная модель используется для изображения Чорба, его ощущений и шагов в текущем физическом времени, тогда как субъектно-неориентированная — для всего остального. Правда, эта дифференциация соблюдается не вполне последовательно: вся недолгая история общения Чорба с продажной женщиной изложена субъектно-неориентированным способом, хотя относится к текущему физическому времени. Этому могут быть разные объяснения, вплоть до неопытности молодого писателя (??), но наиболее вероятное заключается в том, что субъектно-ориентированная модель в чистом виде существует только в рамках описания и рассуждения как функционально-смысловых типов речи. Собственно-повествовательный контекст немыслим без словоформ, называющих субъектов действий, а история общения Чорба и незнакомки как раз и представляет собой такой контекст. И тем не менее, в этом контексте тоже появляются микрофрагменты, реализующие субъектно-ориентированную модель, только субъектом восприятия оказывается уже не Чорб, который уснул, а незнакомка, стоящая у распахнутого окна:
За шторой рама была отворена, и в бархатной бездне улицы виден был угол оперы, черное плечо каменного Орфея, выделявшееся на синеве ночи, и ряд огоньков по туманному фасаду, наискось уходившему в сумрак. Там, далеко, на полукруглых слоях освещенных ступеней кишели, вытекая из яркой проймы дверей, мелкие темные силуэты, и к ступеням скользили, играя фонарями и блестя гладкими крышами, автомобили. (1.3.3.5)
Нетрудно догадаться, что если взять приведенный фрагмент в более широком контексте, то обнаружится та же переходная модель, которая продемонстрирована выше примером из "Тани" И.А.Бунина (1.3.3.4).
В целом же следующее за 9-м абзацем повествование демонстрирует развитие черт, которые мы уже описали. Можно, не заглядывая в текст, предсказать, что, как только повествование будет концентрироваться на ощущениях Чорба (в том числе и зрительных) в данный момент текущего физического времени, будет использоваться маркированная, субъектно-ориентированная модель, в остальных случаях — немаркированная; что ведущую роль в дальнейшем будут играть линейно-синтаксические цепи, так как две модели повествования будут взаимонакладываться, поскольку, в свою очередь, весь сюжет построен на напоминаниях, которые идут навстречу воспоминаниям героя (ср. 12-й—15-й абзацы). Характеристика 11-го абзаца во многом совпадет с характеристикой 8-го: он так же, как и 8-й, почти распадается, только не на три, а на четыре фрагмента, каждый из которых мог бы быть "доразвит" до ССЦ, но остается лишь компонентом большой линейно-синтаксической цепи — той специфической разновидности этой единицы, которая свойственна набоковскому сти… Продолжение »