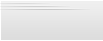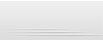Варрон, О латинском языке VIII.
- Как я показал в предыдущих книгах, речь по природе троечастна, и первая часть ее — как слова были установлены для вещей; вторая — каким образом они, отклонившись от этих последних, приобрели различия; третья — как они, разумно соединяясь между собой, выражают мысль. Поэтому, изложив первую часть, я начну теперь о второй. Ведь все производное по природе вторично, потому что предшествует то прямое, от которого оно произошло: точно так же обстоит и со склонением. Итак, при склонении слов, прямое — homo (человек), косвенное — hominis (человека): последнее отклонилось от прямого.
- Многообразие природы различий склонения определяется нижеследующими основаниями: почему, в каком направлении и каким образом стали склоняться слова в речи.
- Склонение вошло в речь не только латинскую, но и всех людей в силу пользы и необходимости: ведь если бы этого не произошло, то мы не могли бы и заучить такое число слов, — ибо бесчисленны естества, на которые они отклоняются, — да и из тех, которые мы заучили бы, не было бы видно, какова связь вещей между собой. Теперь же мы видим, что сходно, что производно. Если legi (я прочел) склонилось от lego (я читаю), то видны сразу две вещи: что говорится некоим образом одно и то же и что действие происходит не в одно и то же время, а если бы, например, одно говорилось Priamus (Приам), а другое Hecuba (Гекуба), то это не обозначало бы того единства, которое видно в lego — legi, Priamus (Приам) — Priamo (Приаму).
- Как у людей бывает происхождение от общего предка и родство, так и у слов: как люди, происходящие от Эмилия — Эмилии и родственники, так в именном родстве находятся слова, склонившиеся от имени Эмилия; действительно, от установленного в прямом падеже имени Aemilius произошло Aemilii (им. над. мн. ч.), Aemilium (вин. над. ед. ч.), Aemilios (вин. над. мн. ч.), Aemiliorum (род. над. мн. ч); также и остальные слова того же семейства.
- Итак, есть вообще два начала слов — установление и склонение; одно как источник, другое как ручей. Устанавливаемых имен желательно было иметь как можно меньше, чтобы можно было скорее их заучить; склоненных - как можно больше, чтобы каждому легче было высказать то, что потребно в обиходе.
- Для того первого рода нужно накопление сведений, ибо он не доступен нам иначе, как через заучивание; для второго — искусство, содержащее лишь немного правил, и притом кратких. Ибо тот же способ, каким научишься склонять на примере одного слова, будет применим к бесконечному числу имен; таким образом, когда входят в обиход новые слова, то весь народ тотчас же без колебаний склоняет их; также и вновь купленные рабы среди многочисленной челяди очень скоро, узнав прямой падеж имен всех остальных рабов, склоняют их по прочий косвенным падежам.
- Если же они иногда и ошибаются, то это неудивительно: ведь и те, которые первыми установили имена вещам, пожалуй кое в чем ошиблись. Действительно, считают, что они хотели обозначить единичные вещи, чтобы от них шло склонение на множество: от homo (человек) — homines (люди); хотели также обозначать свободных мужчин, чтобы от них было склонение для женщин, как например от Terentius — Terentia, и также — устанавливать слова в прямом падеже, чтобы отсюда происходили слова склоненные; но соблюсти это во всем не сумели: так scopae (веник) употребляется (во множественном числе) об одном предмете, aquila (орел) обозначает и самца и самку, слово vis (сила) одинаково и в прямом и в косвенном падеже.
9..Итак, причина, почему стали склонять установленные слова, указана. Остается сообщить также, общо и коротко, в каком направлении захотели склонять и в каком не захотели. Ибо есть два рода слов: один плодовитый, который склонением порождает из себя многие несходные формы, как например lego, legi, legam (я читаю, я прочел, я буду читать) и т. д.; другой "род бесплодный, который ничего из себя не порождает, как например, et (и), iam (уже), vix (едва), eras (завтра), magis (более), сиг (почему).
- Для тех вещей, употребление которых однообразно, таково и склонение слова, как в том доме, где только один раб, нужно одно рабское имя, а в том, где рабов много, нужно несколько. Так же и у таких вещей, какими являются имена, вследствие многих различий в употреблении слова имеется и много отпрысков, а у тех вещей, которые служат связками и соединяют слова, — так как им не было надобности склоняться на многое, то они и остаются единичными: ведь одним ремнем можно привязать и человека, и коня, и все, что только может быть привязано к другому. Так, когда мы говорим: «Консулами были Туллий и Антоний», то этим же самым et (и) мы можем связать любых двух консулов, и более того любые имена и даже любые слова; а односложная опора — то самое et — остается одна. Стало быть, следовали природе, когда не сочли нужным вести склонение от всех слов, которые были установлены для вещей.
- Частей речи такого рода, для которого возникает склонение, две, если, как это делает Дион, мы разделим вещи, обозначаемые словами, на три части, из которых одна соозначает падежи, другая — времена, третья — ни того ни другого. Из них Аристотель называет две частями речи, имена и глаголы, как например homo (человек) и equus (конь), legit (читает) и currit (бежит).
- В каждом роде, и имен и глаголов, есть предшествующие и есть последующие: предшествующие, как homo, scribit (пишет), последующие — как doctus (ученый) и docte (учено); ведь говорится homo doctus и scribit docte. За сим следуют место и время, потому что ни «человек», ни «пишет» не может быть вне места и времени; и при этом место больше связано с человеком, время — с писанием.
- Так как из частей речи имя первое (ибо имя предшествует временному глаголу, а остальное позднее, чем имя и глагол; значит, имена первые), поэтому я об их склонении скажу раньше, чем о склонении глаголов.
- Имена склоняются или по различиям тех вещей, коих они имена, как например от Terentius — Terentia; или по внешним различиям — не тех вещей, коих они имена, как например от equus (конь) — equiso (конюх). По своим различиям они склоняются или в силу природы самой вещи, о которой говорится, или в силу надобностей того, кто говорит. В силу различий самой вещи — или по целому, или по части. По целому, как например от homo (человек) — homunculua (человечек), от caput (голова) — capitulum (головка); с овначением множественности, как от homo — homines (люди).
- Склоненные по части — или по телесной, как например от mamma (грудь) — mammosae (грудастые); или по духовной, как от prudentia (благоразумие) — prudens (благоразумный), от ingenium (ум) — ingeniosi (умные)...
Подобно тому как одни склонения бывают от духа, другие от тела, так иные от того, что вне человека, как например pecuniosi (богатые), agrarii (помещики), потому что вне человека pecunia (богатство) и ager (поместье).
16. В силу надобностей тех, кто говорит, склоняются падежи, чтобы тот, кто говорит о другом, мог отличать, когда он призывает, когда дает, когда обвиняет, и также вводить и прочие различия того же рода, приведшие нас и греков к склонению... Кто призывается —
Hercules (им. над.); как призывается — Hercule (зв. над.); куда призывается — ad Herculem (вин. пад.); кем призывается — ab Hercule (тв. пад.); для кого призывается — Herculi (дат. пад.); чей призывается — Herculis (род. пад.).
17. Для тех слов, которые являлись как бы прозваниями, как например prudens (благоразумный), candidus (белый), stremius (усердный), прибавился новый род склонений, потому что им присущи кроме того различия по возрастанию и они допускают «более» или «менее»: от candidus — candidius (белее), candidissimum (самое белое) и так же — от longus (длинный), dives (богатый) и т. п.
18. К склонению по внешним вещам принадлежат: от equus (конь) — equile (конюшня), от oves (овцы) — ovile (овчарня) и т. п.; это противоположно тем примерам, которые приведены выше, каковы: от pecunia (богатство) — pecuniosus (богатый), от urbs (город) — urbanus (городской), от ater (черный) — atratus (зачерненный); так нередко от человека — место, а от этого места — человек, например от Romulus (Ромул) — Roma (Рим), от Roma — Romanus (римлянин).
- Различными способами склоняется то, что внеположно: одним способом — тот, кто получил склонение по своим предкам, как Latonius (Латоний), Priamidae (Приамиды), другим — то, что получила его по действию, как от praedari (добычничать) — praeda (добыча), от mercari (зарабатывать) — merees (заработок).
- В разряде глаголов, которые обозначают время, вследствие того, что времен три — прошедшее, настоящее, будущее, — оказалось нужным создать тройное склонение, как например от saluto (я приветствую) — salutabam (я приветствовал), salutabo (я буду приветствовать); точно так же, вследствие того, что тройственна природа лиц — кто говорит, кому, о ком, — то и это склоняется от одного и того же глагола.
- После того как сказано о двух вопросах — почему возникло склонение и куда оно направлено, — скажем теперь о третьем, что остается — каким образом оно происходит. Есть два рода склонения — произвольное и естественное. Произвольное — это такое, когда каждый склоняет, как ему вздумалось. Так например, если три человека купили в Эфесе по одному рабу, то бывает, что один склоняет имя от того, кто продал, от Артемидора, и называет Артемой; другой — от страны, где купил, от Ионии — Ионом; третий по Эфесу — Эфесием; а иной от другой какой-нибудь вещи, как захочет.
- Напротив того, естественным склонением я называю такое, которое возникает не от воли отдельных людей, а от общего согласия. Таким образом все, установив имена, одинаково склоняют их падежи и одинаково говорят: этого Артему, этого Иона, этого Эфесия; так же и в других падежах.
- Нередко совпадает то и другое — ив произвольном склонении бывает заметна естественность, и в естественном произвол (каким образом это бывает, уяснится ниже); что касается того, что в каждом из двух склонений одни случаи бывают сходны, другие несходны, то об этом греки и латиняне написали много книг: одни думали, что в речи нужно следовать тем словам, которые подобным образом склонены от подобных, и назвали это аналогией; другие думали, что этим нужно пренебречь и скорее следовать несходству, вошедшему в обиход, которое они назвали аномалией. Между тем, как я полагаю, нам нужно следовать и тому и другому, потому что в произвольном склонении преобладает аномалия, а в естественном — аналогия.
Секст Эмпирик. Против грамматиков.
176. Что следует с известной бережностью относиться к чистоте речи, это ясно само собой.
Ведь, с одной стороны, кто то и дело допускает в своей речи варваризмы и солекизмы, тот подвергается осмеянию как человек необразованный; а с другой стороны, кто владеет эллинской речью, тот способен ясно и точно излагать свои мысли о вещах. Но вот существуют две разновидности эллинской речи. Одна чуждается общего нашего обиходного языка и развертывается, как бы следуя грамматической аналогии, другая же — напротив: следуя обиходному языку каждого эллина, исходя из отображения и наблюдения его в разговоре.
Например, кто от именительного падежа создает формы косвенных падежей Zeoc, Zei. Zеa, тот выразился соответственно первой разновидности эллинской речи, а кто просто говорит тот следует второй, более привычной для нас разновидности. Имея дело с наличием этих двух разновидностей эллинской речи, мы считаем практически пригодной вторую по причинам, уже указанным, а непригодной — первую по причинам, которые сейчас укажем.
- Подобно тому как человек, лояльно придерживающийся известной монеты, имеющей хождение в городе согласно местному обычаю, может беспрепятственно производить денежные операции, имеющие место в том городе, другой же, такую монету не принимающий, но чеканящий какую-то иную, новую монету для себя самого и претендующий на ее признание, будет делать это впустую, так и в жизни тот человек близок к сумасшествию, кто не желает придерживаться речи, принятой подобно монете, но (предпочитает) создавать свою собственную.
- Поэтому, если грамматики сулят преподать так называемую аналогию в качестве известного искусства, путем которого они заставят нас разговаривать согласно первой разновидности эллинской речи, то нам следует показать, что это искусство несостоятельно и что тем, кто желает говорить правильно, нужно полагаться на безыскусственное и простое наблюдение, согласное с жизнью и с общим обиходом, которому следует большинство.
- И вот, ежели существует некое искусство по части эллинской речи, оно либо имеет начала, на которых зиждется, либо не имеет. Что оно начал не имеет, этого грамматики конечно утверждать не станут. Ведь всякое искусство должно зиждиться на известном начале. Если же это искусство имеет известные начала, то либо они техничны, либо нетехничны. И если они техничны, они должны были получиться либо сами собой, либо от какого-то другого искусства, а последнее в свою очередь от третьего, третье же от четвертого, и так до бесконечности, так что искусство, касающееся эллинской речи, становилось бы безначальным и таким образом не являлось бы вовсе и искусством.
- Если же они нетехничны, то не найдется каких-либо иных начал, кроме обихода. Итак, обиход становится критерием того, что является эллинским и что этим качеством не отличается, и нет какого-либо иного искусства по части эллинской речи.
- Далее, так как из числа искусств одни действительно являются искусствами, как скульптура и живопись, другие же лишь рекламируются как искусства, но в действительности отнюдь не являются таковыми, как халдейское и жертвенное, то для того чтобы распознать, является ли существующее якобы по части эллинской речи искусство только обещанием или заключает в себе и некие реальные возможности, нам понадобится некоторый критерий для его проверки,
- А этот критерий в свою очередь есть либо нечто техничное и притом техничное по части эллинской речи (коль скоро ему присуща способность проверять относительно судящего об эллинской речи искусства, здраво ли оно судит), либо — нечто нетехничное. Но техничным в отношении эллинской речи этот критерий конечно не является по причине вышеуказанного бесконечного ненахождения соответствующего начала. Если же брать критерий нетехничный, то мы найдем не что иное, как обиход. Следовательно обиход, служа сам по себе критерием искусства по части эллинской речи, не будет нуждаться в искусстве.
- Если есть только одна возможность овладеть эллинской речью, а именно путем ознакомления с ней через грамматическое искусство, это является либо чем-то непосредственно наглядным и самоочевидным, либо чем-то в известной степени неясным. Но самоочевидный! оно не является, иначе в этом деле господствовало бы всеобщее единомыслие, как и в остальных самоочевидных вещах.
- К тому же для восприятия очевидной вещи нет надобности в каком-либо искусстве, как нет в нем надобности для того, чтобы видеть белое или отведывать сладкое или прикасаться к теплому. А для того чтобы говорить по-эллински, по мнению грамматик в, есть надобность в каком-то методе или искусстве. Следовательно эллинская речь не есть нечто самоочевидное.
- Если же она — нечто неясное, нужно, в виду того, что неясное познается с помощью чего-то другого, либо руководствоваться некоторым природным критерием, дающим возможность распознавать, что — эллинское и что не отличается эллинским характером, либо нужно, для того чтобы понять это (неясное), воспользоваться обиходом одного человека, в совершенстве владеющего эллинской речью, или же — обиходом всех.
- Но природного критерия для распознавания эллинского и неэллинского у нас нет никакого. Ведь когда житель Аттики говорит (cp. р.) как эллинскую форму, а житель Пелопоннеса произносит как форму вполне безупречную; (муж. р.) и один из них говорит (жен. р.), а другой (муж. р.), то для того, чтобы решить, что говорить нужно так, а не иначе, в распоряжении грамматика не имеется никакого верного критерия помимо обихода каждого (из говорящих), а этот обиход не является ни техничным, ни природным.
- Если же грамматики укажут, что нужно следовать обиходу некоего одного человека (якобы в совершенстве владеющего эллинской речью), то либо они это укажут голословно, либо — пользуясь методическими доказательствами. Но тому, что они укажут голословно, мы противопоставим голословное же утверждение, что предпочтительно следовать большинству, а не одному человеку. Если же они будут доказывать методически, что данный человек говорит по-эллински, то они будут принуждены признать критерием эллинской речи тот метод, с помощью которого показано, что этот человек говорит по-эллински, а не самого человека.
- Следовательно остается руководствоваться всеобщим обиходом. А раз это так, то нет нужды в аналогии, нужно только наблюдать, как говорит большинство, и что оно принимает как эллинское, или чего оно, наоборот, избегает, как не являющегося таковым. Эллинское же является таковым либо по природе, либо в силу установления. Но по природе оно таковым не является, а то ведь не могло бы никогда одно и то же одним казаться эллинским, другим — неэллинским.
- Если же эллинская речь существует в силу установления и по людскому узаконению, по-эллински говорит тот, кто особенно много практиковался в эллинской речи путем общения с людьми и понаторел в обиходе, а не тот, кто знает аналогию. Есть и иная возможность показать, что мы не нуждаемся в грамматическом искусстве для того, чтобы говорить по-эллински.
- В повседневной беседе люди будут либо порицать нас за некоторые слова, либо не будут порицать. И если они будут порицать, то немедленно же и исправят нас, и таким образом наша эллинская речь будет результатом того, что установлено самой жизнью, а не грамматиками.
- Если же они не будут недовольны, но будут соглашаться с нашими оборотами как с вполне ясными и правильными, то и мы останемся при этих оборотах. Далее, согласно с аналогией говорят либо все, либо большинство, либо широкая масса людей. Но на самом деле этого нельзя сказать ни обо всех, ни о большинстве, ни о широкой массе. Еле-еле можно найти двоих или троих подобных людей, а большинство даже и вовсе незнакомо с ней.
- Таким образом, коль скоро необходимо следовать обиходу массы, а не каких-нибудь двух человек, то приходится утверждать, что полезным для правильного пользования эллинской речью является наблюдение над всеобщим обиходом, а не аналогия. Ибо удовлетворительным мерилом почти всего того, что полезно для жизни, служит возможность не попадать в неловкое положение по поводу предъявляемых ею запросов.
- Вот почему, если также и эллинская речь получила признание по причине главным образом двух основных свойств, ясности и приятности (а с ними как нечто привходящее и воспоследующее сопряжено умение выражать мысли метафорически, эмфатически и согласно прочим тропам), то мы теперь будем искать ответа на вопрос, откуда это получается в большей мере, из всеобщего ли обихода или же из аналогии, и в зависимости от того или иного разрешения вопроса мы и примкнем к одному из этих направлений.
195. И вот мы убеждаемся в том, что это удается в большей мере,
если отправляться от всеобщего обихода, чем если отправляться от аналогии. Следовательно нужно пользоваться первым, а не второй. Ведь, когда при именительном падеже Zeus в косвенных падежах произносят, а при именительном падеже, то массе людской это представляется ясным и даже не допускающим никакого порицания, а эти случаи взяты из всеобщего обихода. А когда от именительного падежа; образуют формы, а от или же при родительном падеже утверждают существование именительного падежа, а в области глаголов образуют наподобие, то это представляется не только неясным, но и достойным осмеяния и даже порицания.
- А употребление таких форм происходит от аналогии. Итак, повторяю, не ею следует пользоваться, а обиходом. Как бы не оказаться им неверными своему принципу и волей-неволей принужденными пользоваться обиходом и отказаться от аналогии. Обратимся к рассмотрению того, что говорят, исходя из аналогии, т. е. в результате следования грамматикам.
- Когда исследуется, как нужно говорить, то они утверждают, что нужно говорить, а когда от них требуют подтверждения этого, то они говорят, что друг другу аналогичны; подобно тому как говорится, но не говорится, так же точно можно будет сказать, но — ни в коем случае.
- А если кто, наседая на них, спросит далее: а откуда мы знаем, что правильно сказано то самое, которым мы пользуемся для доказательства правильности — то они скажут, что говорится в обиходе. Говоря так, они допускают, что на обиход, а не на аналогию, следует обращать внимание как на критерий.
- Ведь если следует говорить, потому что в обиходе говорится, то мы должны, отбросив теорию аналогии, прибегнуть к обиходу, от которого находится в зависимости и самая теория аналогии. В самом деле: аналогия заключается в сопоставлении множества схожих имен, а сами-то эти имена взяты из обихода, так что и состав материала аналогии идет от обихода.
- А раз дело обстоит так, то приходится ставить вопрос следующим образом. Либо примите обиход как верное средство для распознавания эллинской речи, либо отвергните его. Если вы его принимаете, то наша цель тем самым и достигнута, и нет надобности в аналогии. Если же вы его отвергаете, то вы отвергаете и аналогию, _ так как материальный состав аналогии дается обиходом ведь нелепо одобрять что-либо как надежное и то же самое отстранятьi как ненадежное. |
- Между тем, у грамматиков, которые хотят отвергнуть оби-? ход за его ненадежностью и, обратно, принимать его как надежный, получается, что они одно и то же делают одновременно и надежным и ненадежным. Ведь для того, чтобы показать, что не следует говорить согласно с обиходом, они вводят аналогию. А аналогия не получает силы, если она не подкрепляется (показаниями) обихода.
202 Таким образом у грамматиков получается, что, изгоняя обиход обиходом, они одно и то же одновременно делают надежным и ненадежным. Разве только они скажут, что они отметают и в то же время одобряют не один и тот же обиход, но один отметают, другой же одобряют. Именно так и говорят последователи Пиндариона. Аналогия, мол, по общему признанию, отправляется от обихода.
203. Ибо она является теорией сходного и несходного, а сходное и несходное берется из проверенного обихода, проверенной же и древнейшей является поэзия Гомера. Ведь до нас не дошло ни одного творения более древнего, чем его поэзия. Итак, будем говорить,
следуя его обиходу.
204. Но, во-первых, не всеми признается, что Гомер — древнейший поэт. Ведь одни говорят, что Гесиод ему предшествует по времени, а также Лин, Орфей, Мусей и целый ряд других. Мало того, даже убедительный! представляется, что до него и при нем существовало известное число поэтов, так как и сам он в одном месте говорит: Ведь люди прославляют особенно такую песнь, которая, когда они ее слушают, представляется им новейшей» («Одиссея», I, 351—352). Но эти поэты остались в тени из-за яркого сияния вокруг Гомера.
- Но даже если Гомера признавать древнейшим поэтом, то ничего удовлетворительного Пиндарионом не сказано. Ведь как мы раньше не знали, к какому прийти решению по вопросу, необходимо ли следовать обиходу или аналогии, так и теперь мы будем расходиться в мнениях по вопросу, обиходу ли следовать или аналогии, а если обиходу, то тому ли, который отвечает Гомеру, или же обиходу прочих людей. По этому вопросу ничего не сказано.
- Далее, следует стремиться по преимуществу подражать такому обиходу, пользуясь которым мы не будем подвергаться осмеянию. Если же мы станем следовать гомеровскому обиходу, то наша эллинская речь будет встречена смехом по поводу таких слов, как и прочих еще более странных. Таким образом, и тут у нас не получится ничего путного, несмотря на признание того, правильность чего мы стремимся доказать, т. е. что аналогией пользоваться не следует.
- В самом деле: какая получилась разница, прибегли ли мы к обиходу массы или к обиходу Гомера? Ведь подобно тому как, когда мы имели дело с обиходом массы, необходимо наблюдение, а не техничная аналогия, так же точно и тогда, когда мы имеем дело с Гомером: ведь мы будем говорить сообразно с нашим собственным наблюдением над тем, как он имеет обыкновение говорить.
- Все дело в том, что, подобно тому как сам Гомер пользовался не аналогией, но следовал обиходу своих современников, так и мы ни в коем случае не станем придерживаться аналогии, хотя бы ее подкреплял и Гомер, но будем отображать обиход своих современников.
- Итак, сейчас наше критическое рассуждение о грамматиках привело нас к тому заключению, что аналогия не ведет нас по правильному пути к эллинской речи и что полезно, напротив, наблюдение обихода.
- Это можно сделать очевидным на примере их высказываний. Формулируя определение варваризмов и солекизмов, они говорят так: «варваризм — это погрешность против всеобщего обихода, наблюдаемая по отношению к единичному слову, и «солекизм — это расходящаяся с обиходом погрешность в отношении целостного словесного сочетания и анаколуф (несогласованность)».
- На это мы можем сразу же сказать: если варваризм имеет место в отношении единичного слова, солекизм же — в отношении сочетания слов, а раньше было показано, что не. существует ни единичного слова, ни сочетаний слов, то варваризм или солекизм — нечто несбыточное.
- С другой стороны, если варваризм мыслится (в применении) к одному слову и солекизм в применении к сочетанию слов, но и тот, и другой термины не имеют отношения к лежащим в основе их вещам, то откуда же выходит, что я сделал ошибку, если сказал (этот), показывая на женщину, или (эта), показывая на юношу? Ведь, с другой стороны, я не допустил солекизма, потому что не произносил сочетания из ряда несогласованных друг с другом слов, а только единичное слово сотое (этот) и (эта).
- С другой стороны, я не допустил и варваризма. Ведь в слове (этот) не было ничего необычного, в роде того как существующие в употреблении у александрийцев формы. Однако таких замечаний по адресу грамматиков можно было бы сделать много.
- Но чтобы не создалось впечатление, что мы решительно во всем специально выискиваем апории, вернемся к изначальной теме и скажем следующее. Если варваризм есть отклонение от всеобщего обихода, рассматриваемое на одном слове, и то же самое приложимо к солекизму, при чем только основой для его возникновения служит целый ряд слов, если (в силу этого) варварским является (вместо) в виду того, что этот звуковой состав слова не согласен с обиходом, а к солекизмам относится предложение «долго погулявший, утомлены мои ноги», в виду того, что так не говорят в обиходе, тем самым установлено, что искусство аналогии есть излишний термин вместо «недопущение варваризмов и солекизмов», а необходимо наблюдать обиход и с ним согласовывать свою речь. .
- Ведь если бы грамматики, перестроившись, стали утверждать, что варваризм попросту — отклонение в единичном слове, не прибавляя «от всеобщего обихода», а солекизм — отклонение в отношении всего строя речи и анаколуф, не присовокупляя слова «необычный», то они навлекли бы на себя еще большую неприятность. Ведь следующего рода вещи будут сопровождать их по всему синтаксису: «Афины, прекрасный город», «Орест», прекрасная трагедия» «совет, шестьсот». Их придется назвать солекизмами, и однако солецизмами они не являются в виду своей обиходности.
216. Следовательно не на основании одного только согласования слов нужно судить о солекизме, а на основании обихода.
Хорошо было бы после возражения касательно результатов следования грамматикам и их высказываний подобраться к ним еще со стороны перехода (к новым аналогичным образованиям) на основе сходства.
217. Раз они являются теоретическими исследователями сходного, то коль скоро понятию «быть битым по чашечке)) аналогично «быть битым по носу» и «(быть битым) по животу», первое же выражается словом, то соответственно (можно было бы сказать) также. То же самое следует подсказать относительно. Но мы этих образований не употребляем в виду того, что они идут в разрез со всеобщим обиходом, а следовательно не (употребляем) также и все прочее, основанием к употреблению чего служила бы только аналогия, — не употребляем потому, что эти образования не соответствуют обиходу.
- Далее: раз мы говорим, что по-фракийски лучше всего говорит тот, кто говорит, как это для фракийцев привычно, и наилучшим образом по-латыни говорит тот, кто говорит, как это привычно для римлян, то последовательность требует, чтобы мы сказали также, что по-эллински как следует говорит тот, кто говорит, как это привычно для эллинов, если мы последуем за обиходом, а не за предписанной нормой. Итак, эллинская речь получится у нас в том случае, если мы будем следовать обиходу, а не аналогии.
- Вообще аналогия либо находится в согласии с обиходом, либо расходится с ним. Если она в согласии с ним, то, прежде всего, подобно тому как обиход не является техничным, так и она не станет искусством. Ибо нечто, согласованное с нетехничностью, и само безусловно является нетехничным. А затем то, что является эллинским на основании обихода, окажется эллинским и на основании аналогии, если только она согласна с обиходом, так что то, что является эллинским на основании обихода и будет подлинно эллинским.
- А раз это так, то мы не будем нуждаться в аналогии для опознания эллинского характера речи, так как для этого в нашем распоряжении имеется обиход. Если же аналогия находится в разногласии (с обиходом), то она, вводя вопреки (существующему на деле) обиходу какой-то другой и как бы варварский, безусловно потеряет всякий вес и станет совершенно негодной в виду того, что она дает поводы к порицанию.
- Необходимо также обратиться к аргументации, отправляющейся от состава искусства грамматиков. Ведь они, составив себе известные общие соображения, хотят исходя из этих соображений судить обо всех отдельных именах, будут ли они эллинскими или нет. Но они неспособны на это потому, что, с одной стороны, в отношении общего они не встречают признания того, что оно является общим, а, с другой стороны, когда содержание этого общего раскрывается, оно уже не сохраняет своей природы общего.
222. Возьмем пример этого у самих грамматиков. Когда в отношении какого-либо из единичных имен, например euusv^c, ставится вопрос, следует ли косвенный падеж произносить без сигмы (с) и говорить, или же, напротив, с сигмой (с), то грамматики тут как тут, изрекают общее правило и с его помощью устанавливают как нечто незыблемое то, что в действительности еще является предметом исследования. А именно, они говорят: «всякое оканчивающееся на; единичное имя, имеющее острое ударение на конечном слоге, обязательно будет произноситься с сигмой в родительном падеже, как например. А следовательно, произносимое с острым ударением на конечном слоге, необходимо подобно этим словам произносить с сигмой в родительном падеже, т. е. говорить
- Но эти чудаки прежде всего не отдают себе отчета в том, что тот, кто считает нужным говорить, не согласится с тем их положением, что их правило является общим; именно относительно, являющегося единичным именем и притом с ударением на конечном слоге, он не признает, что оно произносится с сигмой, но будет утверждать, что грамматики предвосхищают искомое, как если бы оно было всеми признаваемым.
- Далее, что если правило является общим, то составлено оно ими либо так, что они подвергли просмотру все отдельные имена и подметили наличную в них аналогию, либо так, что они подвергли просмотру не все имена. Но всех они конечно просмотру не подвергли. Ибо их неограниченное количество, а неограниченного нельзя познать. Если же они подвергли просмотру только некоторые, то какие есть основания полагать, что всякое имя отличается такими же свойтвами? Ведь нельзя же приписывать всем именам то, что имеет место в отношении некоторых.
- Однако среди грамматиков есть такие, которые на это возражают, что общее правило, мол, получается на основании большинства случаев. Но это смешно! Ведь они упускают из виду, что, во-первых, общее — это одно, а преобладающее — нечто иное, и что общее никогда нас не обманывает, а преобладающее изредка и обманывает.
- А во-вторых, они упускают из виду, что если общее правило и получается из большинства случаев, то свойство, имеющее место в отношении большинства имен, вовсе не должно иметь места в отношении всех сходных имен. Н… Продолжение »