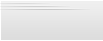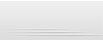Часть первая. Текст как смыслопорождающее устройство
Три функции текста
В системе, разработанной Соссюром и надолго определившей направление семиотической мысли, очевидно предпочтение исследованиям языка, а не речи, структуры кода, а не текста. Речь и ее отграниченная артикулированная ипостась — текст — интересуют лингвиста лишь как сырой материал, манифестация языковой структуры. Все, что релевантно в речи (resp. тексте), дано в языке (resp. коде). Элементы, присутствующие в тексте, но не имеющие соответствия в коде, носителями смысла не являются. Этому соответствует решительное заявление Соссюра: «Надо с самого начала встать на почву языка и считать его нормой для всех прочих проявлений речевой деятельности»3. Принять язык за норму — означает сделать его точкой научного отсчета в определении существенного и несущественного для языковой дея-
1 Соссюр Ф. Труды по языкознанию. С. 118—120.
2 В работе над этой книгой мне помогала научная атмосфера, созданная моими коллегами в Тартуском университете, мои слушатели и друзья, и особенно 3. Г. Минц и Л. Н. Киселева. Всем им — горячая благодарность.
3 Русский перевод (см.: Соссюр Ф, Труды по языкознанию. С. 47) дает: «считать его основанием (norme)». Думается, что это сдвигает смысл французского оригинала (см.: Saussure F. de. Cours de linguistique générale / Ed. critique préparée par T. de Mauro. Paris, 1962. P. 25.
156
тельности. Естественно, что все, не имеющее соответствия в языке (коде), при дешифровке сообщения «снимается». После того, как из руды речи выплавлен металл языковой структуры, остается только шлак. Именно в этом смысле наука о языке может обойтись без анализа речи.
Но за этой научной позицией стоит целый комплекс прямо не выраженных, почти бытовых представлений о функции языка. Если ученого-лингвиста интересует структура языка, извлекаемая из текста, то бытового получателя информации занимает содержание сообщения. В обоих случаях текст выступает как нечто, ценное не само по себе, а лишь в качестве своего рода упаковки, из недр которой извлекается объект интереса.
Для получателя сообщения представляется естественной такая логическая последовательность:
Конечно, следовало бы вспомнить предостережение Э. Бенвениста. Он указывал, что из факта неосознанности производимых нами языковых операций и из того, что «мы можем сказать все, что угодно», «...проистекает то широко распространенное <...> убеждение, будто процесс мышления и речь — это два различных в своей основе рода деятельности, которые соединяются лишь в практических целях коммуникации, но каждый из них имеет свою область и свои самостоятельные возможности; причем язык предоставляет разуму средства для того, что принято называть выражением мысли».
И далее: «Конечно, язык, когда он проявляется в речи, используется для передачи „того, что мы хотим сказать". Однако явление, которое мы называем „то, что мы хотим сказать", или „то, что у нас на уме", или „наша мысль", или каким-нибудь другим именем, — это явление есть содержание мысли; его весьма трудно определить как некую самостоятельную сущность, не прибегая к терминам „намерение" или „психическая структура", и т. п. Это содержание приобретает форму, лишь когда оно высказывается, и только таким образом. Оно оформляется языком и в языке...»1
1 Бенвенист Э. Общая лингвистика / Пер. с фр. Ред., коммент. и вступ. ст. Ю. С. Степанова. М., 1974. С. 104—105; ср.: Benveniste É. Problèmes de linguistique générale. [Paris], 1966. P. 63—64.
157
Однако можно себе представить некоторый смысл, который остается инвариантным при всех трансформациях текста. Этот смысл можно представить как дотекстовое сообщение, реализуемое в тексте. На такой презумпции построена модель «смысл — текст» (см. о ней далее). При этом предполагается, что в идеальном случае информационное содержание не меняется ни качественно, ни в объеме: получатель декодирует текст и получает исходное сообщение. Опять текст выступает лишь как «техническая упаковка» сообщения, в котором заинтересован получатель.
За таким взглядом на работу семиотического механизма стоит убеждение в том, что целью его является адекватная передача некоторого сообщения. Система работает «хорошо», если сообщение, полученное адресатом, полностью идентично отправленному адресантом, и «плохо», если между этими текстами наличествуют различия. Эти различия квалифицируются как «ошибки», на избежание которых работают специальные механизмы структуры (избыточность, в частности).
Убеждение это не беспочвенно: оно указывает на исключительно существенную функцию семиотических структур. Однако нельзя не признать, что стоит нам принять эту функцию за единственную или даже основную, как мы окажемся перед рядом парадоксов.
Если увидеть в адекватности передачи сообщения основной критерий оценки эффективности семиотических систем, то придется признать, что все естественно возникшие языковые структуры устроены в достаточной мере плохо. Для того, чтобы достаточно сложное сообщение было воспринято с абсолютной идентичностью, нужны условия, в естественной ситуации практически недостижимые: для этого требуется, чтобы адресант и адресат пользовались полностью идентичными кодами, то есть, фактически, чтобы они в семиотическом отношении представляли бы как бы удвоенную одну и ту же личность, поскольку код включает не только определенный двумерный набор правил шифровки — дешифровки сообщения, но обладает многомерной иерархией. Даже утверждение, что оба участника коммуникации пользуются одним и тем же естественным языком (английским, русским, эстонским и т. д.), не обеспечивает тождественности кода, так как требуется еще единство языкового опыта, тождественность объема памяти. А к этому следует присоединить единство представлений о норме, языковой референции и прагматике. Если добавить влияние культурной традиции (семиотической памяти культуры) и неизбежную индивидуальность, с которой эта традиция раскрывается тому или иному члену коллектива, то станет очевидно, что совпадение кодов передающего и принимающего в реальности возможно лишь в некоторой весьма относительной степени. Из этого неизбежно вытекает относительность идентичности исходного и полученного текстов. С этой точки зрения, действительно, может показаться, что естественный язык плохо выполняет порученную ему работу. О языке поэзии и говорить не приходится.
Таким образом, делается очевидно, что для полной гарантии адекватности переданного и полученного сообщения необходим искусственный (упрощенный) язык и искусственно-упрощенные коммуниканты: со строго ограниченным объемом памяти и полным вычеркиванием из семиотической личности ее культурного багажа. Созданный таким образом механизм сможет обслужить
158
лишь ограниченный круг семиотических потребностей; универсализм, присущий естественным языкам, ему будет в принципе чужд.
Можно ли считать, что эта искусственная модель должна считаться образцом языка как такового, его идеалом, от которого он отличается лишь несовершенством — естественным результатом «неразумного» творчества Природы? Искусственные языки моделируют не язык как таковой, а одну из его функций — способность к адекватной передаче сообщения, ибо, достигая совершенства в ее реализации, семиотические структуры утрачивают способность обслуживать другие, присущие им в естественном состоянии.
Каковы же эти функции?
Здесь, прежде всего, следует назвать творческую. Всякая осуществляющая весь набор семиотических возможностей система не только передает готовые сообщения, но и служит генератором новых.
Что же мы будем называть «новыми сообщениями»? Прежде всего договоримся, что мы нe будем их так называть. Сообщения, полученные из некоторых исходных в результате однозначных преобразований, то есть сообщения, являющиеся плодом симметричных преобразований исходного (запуская преобразование в обратном порядке, получаем исходный текст), мы не будем считать новыми. Если перевод с языка l1 текста Т1 на язык L2 приводит к появлению текста Т2 такого рода, что при операции обратного перевода мы получаем исходный текст Т1, то мы не будем считать текст Т2 новым по отношению к Т1. Так, с этой точки зрения, правильное решение математических задач новых текстов не создает. Здесь можно вспомнить положение Л. Витгенштейна, согласно которому в пределах логики нельзя сказать ничего нового.
Полярную противоположность искусственным языкам представляют семиотические системы, в которых креативная функция наиболее сильна: очевидно, что если самое посредственное стихотворение перевести на другой язык (то есть на язык другой стихотворной системы), то операция обратного перевода не даст исходного текста. Самый факт возможности многократного художественного перевода одного и того же стихотворения различными переводчиками свидетельствует о том, что вместо точного соответствия тексту Τι в этом случае сопоставлено некоторое пространство. Любой из заполняющих его текстов t1, t2, ... tn будет возможной интерпретацией исходного текста. Вместо точного соответствия — одна из возможных интерпретаций, вместо симметричного преобразования — асимметричное, вместо тождества элементов, составляющих Т1 и Т2, — условная их эквивалентность. При переводе французской поэзии на русский язык передача французского двенадцатисложного силлабического стиха русским шестистопным силлабо-тоническим ямбом представляет собой условность, дань сложившейся традиции. Однако в принципе возможен и перевод французской силлабики с помощью русской силлабики. Переводчик оказывается перед необходимостью сделать выбор. Еще большая неопределенность возникает, например, при трансформации романа в кинофильм.
Возникающий в этих случаях текст мы будем рассматривать как новый, а создающий его акт перевода — как творческий.
159
Схему адекватной передачи текста при пользовании искусственным языком можно представить в следующем виде:
Здесь передающий и принимающий пользуются единым кодом К.
Схема художественного перевода показывает, что передающий и принимающий пользуются различными кодами К1 и К2, пересекающимися, но не идентичными. В случае обратного перевода это даст не исходный, а некоторый третий текст Т3. Еще ближе к реальному процессу циркуляции сообщений случай, когда перед передающим оказывается не один код, а некоторое множественное пространство кодов k1, k2, ..., kn, каждый из которых — сложное иерархическое устройство и допускает порождение некоторого множества текстов, в равной мере ему соответствующих. Асимметрическая направленность, постоянная потребность выбора делают в этом случае перевод актом порождения новой информации и реализуют творческую функцию как языка, так и текста.
Особенно показательна ситуация, когда между кодами существует не просто различие, а ситуация взаимной непереводимости (например, при переводе словесного текста в иконический). Перевод осуществляется с помощью принятой в данной культуре условной системы эквивалентностей. Так, например, при передаче словесного текста живописным (например, картина на евангельский сюжет) пространство темы будет в кодах пересекаться, а пространства языка и стиля — лишь условно соотноситься в пределах данной традиции. Комбинация переводимости — непереводимости (с разной степенью того и другого) определяет креативную функцию.
Поскольку смыслом в данном случае оказывается не только тот инвариантный остаток, который сохраняется при разнообразных трансформационных операциях, но и то, что при этом изменяется, мы можем констатировать приращение смысла текста в процессе этих трансформаций.160
Следует отметить еще одну особенность. При пользовании искусственными языками (или естественным и поэтическим языками как искусственными, например, передавая роман Толстого краткой аннотацией сюжета) мы отделяем смысл от языка. При сложных операциях смыслопорождения язык неотделим от выражаемого им содержания. В этом последнем случае мы имеем уже не только сообщение на языке, но и сообщение о языке, сообщение, в котором интерес перемещается на его язык. Это и есть та направленность сообщения на код, в которой Р. О. Якобсон видел основной признак художественного текста.
В этом случае многие явления парадоксально перемещаются. Так, например, при ориентации на константность сообщения тот факт, что язык предшествует сообщению на нем и заранее дан обоим участникам коммуникации, представляется настолько естественным, что специально не оговаривается; даже в сложных случаях получатель сначала по каким-либо сигналам опознает, каким из известных ему кодов зашифровано сообщение, а затем уже приступает к «чтению». Когда герои романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта» извлекли из бутылки три фрагмента документа, они прежде всего установили, что один из них написан на английском, другой на немецком, третий на французском языках, а потом уже занялись реконструкцией смысла разрушенного документа.
Во втором случае возможен противоположный порядок: сначала дан документ, а затем уже реконструируется его язык. Такой порядок вполне обычен, когда мы получаем в руки обломок далекой от нас культуры. Речь может идти не только о словесных текстах на неизвестных языках, но и о вырванных из контекстов памятниках искусства и материальной культуры, функции и смысл которых археологу предстоит реконструировать. Еще более обычен этот случай в истории искусства, так как всякое новаторское художественное произведение является sui generis произведением на неизвестном аудитории языке, который еще должен быть реконструирован и усвоен адресатами. Возможность такого «самообучения» адресата обуславливается, во-первых, тем, что в любом, даже предельно индивидуализованном, языке не все индивидуально: неизбежно наличествуют уровни, общие для обоих участников коммуникации, служащие базой для реконструкции. Во-вторых, это «индивидуальное» и новое неизбежно стоит на определенной традиции, память о которой актуализована в тексте. Наконец, в-третьих, язык искусства неизбежно гетерогенен и, предельно удаляясь от полюса мета- и искусственных языков, он — парадоксально — обязательно включает элементы рефлексии над собой, то есть метаязыковые структуры. Опыт европейского авангарда убедительно свидетельствует, что чем индивидуальнее художественный язык, тем более места занимает авторская рефлексия, направленная на язык и включенная в его же структуру. Текст сознательно превращается в урок языка.
Итак, спектр текстов, заполняющих пространство культуры, нам рисуется как расположенный на оси, полюса которой образуют искусственные языки, с одной стороны, и художественные — с другой. Остальные помещаются на разных точках оси, тяготея то к одному, то к другому полюсу. При этом надо иметь в виду, что полюса этой оси — абстракция, не осуществимая в
161
реальных языках: как невозможны искусственные языки без некоторого, хотя бы зачаточного синонимизма и других «поэтических» элементов, так неизбежны метаязыковые тенденции в языках с демонстративной тенденцией к «чистому» поэтизму.
Следует учитывать также, что место текста на названной выше оси подвижно: читающий может оценивать соотношение «поэтического» и «информационного» в тексте иначе, чем автор. Когда Асеев пишет:
Я запретил бы «Продажу овса и сена»...
Ведь это пахнет убийством Отца и Сына?1 —
а зашедший в город крестьянин у Пильняка читает: «Коммутаторы, аккумуляторы» как
Ком-му ... таторы, а ... кко-му ... ляторы <...>2,
то очевидно, что такой текст — вывеска — в первом случае читается как поэтический, а во втором — как пословица; в первом случае незакономерно высвечивается звуковая сторона, во втором — синтагматика деформируется по законам построения паремии.
Возможность выбора одной из двух позиций за точку отсчета в подходе к языку влечет существенные последствия. В одном случае информационная (в узком смысле) точка зрения представит язык как машину передачи неизменных сообщений, а поэтический язык предстанет как частный и, в общем, странный уголок этой системы. В нем будут видеть лишь естественный язык с наложенными на него добавочными ограничениями и, следовательно, со значительно суженной информационной емкостью.
Однако возможен и другой взгляд, также неоднократно демонстрировавшийся в лингвистике: творческая функция будет рассматриваться в качестве универсального свойства языка, а поэтический язык — в качестве наиболее представительной демонстрации языка как такового. Именно противостоящие ему семиотические модели окажутся тогда частной областью языкового пространства.
С этой точки зрения исключительно интересен исторический «спор» между гениальными лингвистами Ф. Соссюром и Р. О. Якобсоном.
Соссюр отчетливо представлял себе именно первую функцию как главный принцип языка. Отсюда четкость его оппозиций, подчеркивание универсального значения принципа условности в связи означаемого и означающего и т. д. А за ним рисуется культура XIX в. с ее верой в позитивную науку, убеждением, что понимание есть благо, а непонимание — абсолютное зло, с всеобщей грамотностью, романами Золя и Гонкуров. Р. О. Якобсон был и оставался человеком авангардистской культуры, его первая книга «Новейшая русская поэзия. Набросок первый» (1921) явилась как бы блистательным прологом всей его научной деятельности. Язык Хлебникова, язык русских футуристов был для Якобсона не аномалией, а наиболее последовательной реализацией структуры
1 Асеев Н. Собр. соч.: В 5 т. М., 1963. Т. 1. С. 50.
2 Пильняк Б. Голый год. М.; Л., 1927. С. 125.
162
языка и одним из важнейших импульсов для его последующих фонологических разысканий. С опытом работы с художественным языком связана чуткость Якобсона к эстетической стороне семиотических систем. Это объясняет тот нажим, с которым он критикует Соссюра, атакуя центральный для последнего принцип условности связи между означающим и означаемым в знаке1. Действительно, язык художественного текста приобретает вторичные черты иконизма, что отражается на возникновении вопроса «непереводимости» поэтического языка. В названной статье Якобсон исключительно тонко вскрывает черты иконизма, присущие языку каждодневного общения, то есть наличие потенциального художественного начала в языке как таковом. Если академик А. Н. Колмогоров еще в начале 1960-х гг. показал, что на искусственных языках нельзя писать стихов, то Р. О. Якобсон убедительно продемонстрировал потенциальный иконизм и, следовательно, наличие художественного аспекта в естественных языках, подтвердив тем самым мысль А. А. Потебни о том, что вся сфера языка принадлежит искусству.
Третья функция текста — функция памяти. Текст — не только генератор новых смыслов, но и конденсатор культурной памяти. Текст обладает способностью сохранять память о своих предшествующих контекстах. Без этого историческая наука была бы невозможна, так как культура (и шире — картина жизни) предшествующих эпох доходит до нас неизбежно во фрагментах. Если бы текст оставался в сознании воспринимающего только самим собой, то прошлое представлялось бы нам мозаикой несвязанных отрывков. Но для воспринимающего текст — всегда метонимия реконструируемого целостного значения, дискретный знак недискретной сущности. Сумма контекстов, в которых данный текст приобретает осмысленность и которые определенным образом как бы инкорпорированы в нем, может быть названа памятью текста. Это создаваемое текстом вокруг себя смысловое пространство вступает в определенные соотношения с культурной памятью (традицией), отложившейся в сознании аудитории. В результате текст вновь обретает семиотическую жизнь.
Любая культура постоянно подвергается бомбардировке со стороны падающих на нее, подобно метеоритному дождю, случайных отдельных текстов. Речь идет не о текстах, включенных в определенную связную традицию, оказывающую влияние на ту или иную культуру, а именно об отдельных возмущающих вторжениях. Это могут быть обломки других цивилизаций, случайно выкапываемые из земли, случайно занесенные тексты отдаленных во времени или пространстве культур. Если бы тексты не имели своей памяти и не могли бы создавать вокруг себя определенной семантической ауры, все эти вторжения так и оставались бы музейными раритетами, находящимися вне основного культурного процесса. На самом деле они оказываются важными факторами, провоцирующими динамику культуры. Связано это с тем, что текст, подобно зерну, содержащему в себе программу будущего развития, не является застывшей и неизменно равной самой себе данностью. Внутренняя не-до-конца-определенность его структуры создает под влиянием контактов с новыми контекстами резерв для его динамики.
1 См.: Якобсон Р. В поисках сущности языка // Семиотика / Сост., вступ. ст. и общ. ред. Ю. С. Степанова. М., 1983.
163
У этого вопроса есть и другой аспект. Казалось бы, что текст, проходя через века, должен стираться, терять содержащуюся в нем информацию. Однако в тех случаях, когда мы имеем дело с текстами, сохраняющими культурную активность, они обнаруживают способность накапливать информацию, то есть способность памяти. Ныне «Гамлет» — это не только текст Шекспира, но и память обо всех интерпретациях этого произведения и, более того, память о тех вне текста находящихся исторических событиях, с которыми текст Шекспира может вызывать ассоциации. Мы можем забыть то, что знал Шекспир и его зрители, но мы не можем забыть то, что мы узнали после них. А это придает тексту новые смыслы.
Автокоммуникация: «Я» и «Другой» как адресаты (О двух моделях коммуникации в системе культуры)
Органическая связь между культурой и коммуникацией составляет одну из основ современной культурологии. Следствием этого является перенесение на сферу культуры моделей и терминов, заимствованных из теории коммуникаций. Применение основной модели, разработанной Р. Якобсоном, позволило связать обширный круг проблем языка, искусства и — шире — культуры с теорией коммуникативных систем. Как известно, предложенная Р. Якобсоном1 модель имела следующий вид:
Создание единой модели коммуникативных ситуаций было существенным вкладом в науки семиотического цикла и вызвало отклик во многих исследовательских работах. Однако автоматическое перенесение существующих уже представлений на область культуры вызывает ряд трудностей. Основная из них следующая: в механике культуры коммуникация осуществляется минимум по двум, устроенным различным образом, каналам.
Нам еще придется обращать внимание на обязательность наличия в едином механизме культуры изобразительных и словесных связей, которые могут рассматриваться как два различно устроенных канала передачи информации. Однако оба эти канала описываются моделью Якобсона и в этом отношении однотипны. Но если задаться целью построить модель культуры на более абстрактном уровне, то окажется возможным выделить два типа каналов коммуникации, из которых только один будет описываться применявшейся до сих пор классической моделью. Для этого необходимо сначала
1 См.: Jakobson R. Linguistics and Poetics // Style in Language. Cambridge, 1964. P. 353.
164
выделить два возможных направления передачи сообщения. Наиболее типовой случай — это направление «Я — ОН», в котором «Я» — это субъект передачи, обладатель информации, а «ОН» — объект, адресат. В этом случае предполагается, что до начала акта коммуникации некоторое сообщение известно «мне» и не известно «ему».
Господство коммуникаций этого типа в привычной нам культуре заслоняет другое направление в передаче коммуникации, которое можно было бы схематически охарактеризовать как направление «Я — Я». Случай, когда субъект передает сообщение самому себе, то есть тому, кому оно уже и так известно, представляется парадоксальным. Однако на самом деле он не так уж редок и в общей системе культуры играет немалую роль.
Когда мы говорим о передаче сообщения по системе «Я — Я», мы имеем в виду в первую очередь не те случаи, когда текст выполняет мнемоническую функцию. Здесь воспринимающее второе «Я» функционально приравнивается к третьему лицу. Различие сводится к тому, что в системе «Я — ОН» информация перемещается в пространстве, а в системе «Я — Я» — во времени1.
Прежде всего нас интересует случай, когда передача информации от «Я» к «Я» не сопровождается разрывом во времени и выполняет не мнемоническую, а какую-то иную культурную функцию. Сообщение самому себе уже известной информации прежде всего имеет место во всех случаях, когда при этом повышается ранг сообщения. Так, когда молодой поэт читает свое стихотворение напечатанным, сообщение текстуально остается тем же, что и известный ему рукописный текст. Однако, будучи переведено в новую систему графических знаков, обладающих другой степенью авторитетности в данной культуре, оно получает некоторую дополнительную значимость. Аналогичны случаи, когда истинность или ложность сообщения ставится в зависимость от того, высказано оно словами или только подразумевается, сказано или написано, написано или напечатано и т. д.
Но и в целом ряде других случаев мы имеем передачу сообщения от «Я» к «Я». Это все случаи, когда человек обращается к самому себе, в частности, те дневниковые записи, которые делаются не с целью запоминания определенных сведений, а имеют целью, например, уяснение внутреннего состояния пишущего, уяснение, которого без записи не происходит. Обращение с текстами, речами, рассуждениями к самому себе — существенный факт не только психологии, но и истории культуры.
В дальнейшем мы постараемся показать, что место автокоммуникации в системе культуры гораздо более значительно, чем это можно было бы предположить.
Как достигается, однако, столь странное положение, при котором сообщение, передаваемое в системе «Я — Я», не делается полностью избыточным и приобретает какую-то дополнительную новую информацию?
1 Пятигорский А. М. Некоторые общие замечания относительно рассмотрения текста как разновидности сигнала // Структурно-типологические исследования. М., 1962. С. 149—150.
165
В системе «Я — ОН» переменными оказываются обрамляющие элементы модели (адресант заменяется адресатом), а постоянными — код и сообщение. Сообщение и содержащаяся в нем информация константны, меняется же носитель информации.
В системе «Я — Я» носитель информации остается тем же, но сообщение в процессе коммуникации переформулируется и приобретает новый смысл. Это происходит в результате того, что вводится добавочный — второй — код и исходное сообщение перекодируется в единицах его структуры, получая черты нового сообщения.
Схема коммуникации в этом случае выглядит так:
Если коммуникативная система «Я — ОН» обеспечивает лишь передачу некоторого константного объема информации, то в канале «Я — Я» происходит ее качественная трансформация, которая приводит к перестройке самого этого «Я». В первом случае адресант передает сообщение другому, адресату, а сам остается неизменным в ходе этого акта. Во втором, передавая самому себе, он внутренне перестраивает свою сущность, поскольку сущность личности можно трактовать как индивидуальный набор социально значимых кодов, а набор этот здесь, в процессе коммуникационного акта, меняется.
Передача сообщения по каналу «Я — Я» не имеет имманентного характера, поскольку обусловлена вторжением извне некоторых добавочных кодов и наличием внешних толчков, сдвигающих контекстную ситуацию.
Характерным примером будет воздействие мерных звуков (стука колес, ритмической музыки) на внутренний монолог человека. Можно было бы назвать целый ряд художественных текстов, воспроизводящих зависимость яркой и необузданной фантазии от мерных ритмов езды на лошади («Лесной царь» Гёте, ряд стихотворений в «Лирических интермеццо» Гейне), качания корабля («Сон на море» Тютчева), ритмов железной дороги («Попутная песня» Глинки на слова Кукольника).
Рассмотрим с этой точки зрения «Сон на море» Тютчева.
СОН НА МОРЕ
И море и буря качали наш челн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн.
Две беспредельности были во мне,
И мной своевольно играли оне.
Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы,
Окликалися ветры и пели валы.
Я в хаосе звуков лежал оглушен,
Но над хаосом звуков носился мой сон.
Болезненно-яркий, волшебно-немой,
Он веял легко над гремящею тьмой.
В лучах огневицы развил он свой мир —
Земля зеленела, светился эфир,
166
Сады-лавиринфы, чертоги, столпы,
И сонмы кипели безмолвной толпы.
Я много узнал мне неведомых лиц,
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц,
По высям творенья, как Бог, я шагал,
И мир подо мною недвижный сиял.
Но все грезы насквозь, как волшебника вой,
Мне слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих валов1.
Нас здесь не интересует тот аспект стихотворения, который связан с существенным для Тютчева сопоставлением («Дума за думой, волна за волной») или противопоставлением («Певучесть есть в морских волнах») душевной жизни человека, с одной стороны, и моря, с другой.
Поскольку в основе текста, видимо, лежит реальное переживание — воспоминание о четырехдневной буре в сентябре 1833 г. во время путешествия по Адриатическому морю, — нам оно интересно как памятник психологического самонаблюдения автора (вряд ли можно отрицать законность, среди прочих, и такого подхода к тексту).
В стихотворении выделены два компонента душевного состояния автора: беззвучный сон и мерный рев бури. Последний — отмечен неожиданным включением в амфибрахический текст анапестических строк:
Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы, Окликалися ветры и пели валы <...> Но над хаосом звуков носился мой сон <...> Но все грезы насквозь, как волшебника вой <...>
Анапестом выделены строки, посвященные грохоту бури, и два начинающихся с «но» симметричных стиха, изображающих прорыв сна через шум бури или шума бури сквозь сон. Стих, посвященный философской теме «двойной бездны» («две беспредельности»), связывающий текст с другими стихотворениями Тютчева, выделен единственным дактилем.
Столь же резко выделяет шум бури на фоне беззвучного мира сна («волшебно-немой», населенный «безмолвными» толпами) обилие звучащих характеристик. Но именно эти мерные оглушительные звуки становятся ритмическим фоном, обуславливающим освобождение мысли, ее взлет и яркость.
Приведем другой пример («Евгений Онегин», гл. 8):
XXXVI
И что ж? Глаза его читали, Но мысли были далеко; Мечты, желания, печали Теснилис… Продолжение »