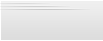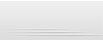Интерпретировать это явление можно по-разному. Возможно, например, использование оппозиции текст — метатекст (прежде всего в понимании А.Вежбицкой, впервые предложившей и охарактеризовавшей это понятие [Вежбицка 1978]), или, точнее, эпитекст — метатекст (в рамках данного текста)[109]. В этом случае интерпретация сведется к констатации того факта, что мы имеем дело с намеренным введением метатекстовых, по своей природе, элементов в эпитекст, что противоречит повествовательной традиции. Однако объяснительная сила такой интерпретации невелика — по двум причинам. Во-первых, А.Вежбицка, вводя понятие метатекста, использовала материал, весьма далекий от сферы художественного текста, — и, по-видимому, не случайно. Применимость понятия "метатекст" (и, соответственно, оппозиции "эпитекст — метатекст") к художественному тексту отнюдь не самоочевидна и, во всяком случае, требует специального обоснования. Во-вторых, почти непреодолимые трудности возникают при попытке обосновать тезис о нетипичности для русской повествовательной традиции такого явления, как выраженное присутствие Автора в тексте: достаточно вспомнить "Евгения Онегина", "Героя нашего времени" и "Мертвые души", чтобы увидеть, что легких побед этот путь не сулит.
Можно пойти по другому пути: попытаться выявить довольно тонкие, но все же ощутимые различия между характером авторского присутствия в тексте у классиков — и, допустим, у В.Набокова.
В самом деле, Автор присутствует в тексте и у Пушкина, и у Гоголя, и у Лермонтова — но присутствует не так, как у Набокова. В пушкинском тексте Автор, как известно, появляется уже в посвящении ("Не мысля гордый свет забавить..."), затем во второй строфе первой главы (а косвенно — еще и в эпиграфе к ней, так как строка из П.А.Вяземского, по-дружески своевольно обозначенного как "К.<нязь> Вяземский", также отсылает к Автору), где и выясняется, что герой романа — "добрый приятель" Автора. Таким образом, Автор с самого начала романа обозначает как свое отношение к этому произведению, так и свое место в сюжете, обеспечивая себе стабильную локализацию в тексте. Ни одно последующее появление Автора в тексте уже не может вызвать изумленной или недоуменной реакции читателя.
Примерно аналогичной окажется характеристика авторского присутствия и у Гоголя, и у Лермонтова (разговор о жанрово обусловленных отличиях здесь опускаем: нас интересует только стабильность локализации Автора, или образа автора, в тексте). Н.А.Кожевникова пишет: "Связи и отношения между разными типами повествования внутри произведения относительно закреплены, поскольку они заданы повествователем и представляют собой некую норму организации текста. Та или иная позиция повествователя предполагает (или допускает) использование одних типов повествования и исключает (или ограничивает) возможности использования других. <...> Чем более конкретно "я", будь то "я" автора-наблюдателя или "я" рассказчика, тем больше ограничений с ним связано" (Кожевникова 1994: 286—291). Вот именно эта конкретность, определенность "я" повествователя, влекущая за собой вполне определенные ограничения, и подразумевается нами под выражением "стабильность локализации Автора в тексте".
До тех пор, пока эта локализация стабильна на всем протяжении текста, мы находимся в русле классической традиции. Две основные разновидности этой модели (Я-герой и Он-герой; в терминах Е.В.Падучевой — традиционные повествовательные формы: 1) с диегетическим повествователем, принадлежащим миру текста, иначе — перволичная форма; 2) с экзегетическим повествователем, не входящим во внутренний мир текста, иначе — аукториальная форма, или нарратив 3-го лица [Падучева 1996: 214][110]) предполагают неизменность позиции повествователя как представителя автора в тексте, и в этом смысле — стабильность локализации автора. Если же вводятся дополнительная маска или рамка (изменяется локализация автора), то они маркируются, читателю ясно дается понять, кто есть кто. Автор под лицом любого из своих возможных представителей (повествователь, рассказчик) — и даже в собственном Образе — и герой могут прекрасно сосуществовать в структуре текста, нисколько не мешая друг другу, не контаминируя и не двоясь в сознании читателя и т.д. — именно потому, что у каждого своя функциональная сфера. Автор может, к примеру, сколько угодно собственной персоной лукаво выглядывать из-за спины Собакевича — читателю и в голову не придет заподозрить его, допустим, в желании перехватить у Чичикова выгодную сделку. Ибо по отношению к своим героям автор (здесь) занимает позицию экзегетического повествователя, не принадлежащего миру Чичикова и остальных, и неизменности этой позиции отнюдь не мешает то, что автор может в любой момент повернуться лицом (уже другим) к читателю и завести беседу непосредственно с ним: важно, чтобы лики автора не накладывались друг на друга — тогда читатель готов принять их, так сказать, в любом количестве. И Гоголь, при всей ошеломляющей новизне этого повествования, свято блюдет права читателя, четко разграничивая свои лики и их смену уже на уровне грамматического лица. Больше того, автор может "присваивать" мысли и целые внутренние монологи героя (ср. размышления того же Чичикова о судьбах купленных крестьян или — пуще того, в драме! — известный монолог Сатина, в котором автор откровенно "забивает гвозди", бросив заботу об убедительности) — и умный читатель отнюдь не сбивается с толку, он понимает: вот, дескать, устами героя говорит сам автор. "Проницательный читатель" (Н.Г.Чернышевский) догадывается, что вообще все это — не что иное, как сочиненный автором способ сообщить ему нечто и убедить его в чем-то; не что иное, как авторское сознание, преломленное в разных художественных формах (В.В.Виноградов, Г.А.Гуковский, Б.М.Эйхенбаум, Л.Я.Гинзбург, А.В.Чичерин, Б.О.Корман, В.И.Тюпа и мн. др.). Но даже ясно понимая условность пространства, времени, сознания героя, читатель сохраняет установку на восприятие изображаемого как существующего объективно, помимо воли автора, потому что и автор, даже самолично являясь на сцену в модели Он-герой, продолжает заботиться о сохранении этой условности ("я повествую" [Ich-Erzählung] — не изобретаю, не сочиняю! — хотя итог и зовется сочинением). Эстетика тождества...
При всей своей тривиальности, эти рассуждения побуждают к более широкой постановке вопроса. Характер локализации автора в тексте — это признак наиболее явный; за ним просматривается нечто, может быть, менее очевидное, но не менее действительное. Е.В.Падучева глубоко права, утверждая, что различия в типах повествователя, лежащие в основе типологии нарратива, могут быть переформулированы как различные ответы на вопрос, в чьих руках находится управление эгоцентрическими элементами — как первичными, так и вторичными, имеющими опосредованную референцию (Падучева 1996). В самом деле, читатель может составить представление об изображаемом мире, в частности о его важнейших параметрах — пространственно-временных, — только опираясь на данную текстом точку отсчета; а это и есть тот "аналог говорящего", в чьем ведении находятся все эгоцентрики и к кому они отсылают. Значимость этого факта усугубляется тем, что, в отличие от слушающего в "канонической ситуации" речевого общения, читателю вообще больше не на что опереться: ни временные, ни пространственные координаты автора и читателя не совпадают (там же: 198—201). Поэтому от характера локализации автора в тексте — ее стабильности или нестабильности — прямо зависит возможность или невозможность для читателя построить непротиворечивую и достаточно определенную модель изображаемого мира. Другими словами, за этим характером скрывается важнейший признак текста: определенность / неопределенность всех содержащихся в нем референций, и прежде всего основных, базирующихся на дейксисе — субъектных и пространственно-временных. Назовем этот признак дейктическим модусом текста.
Следует оговорить, что речь в данном случае идет о вторичном дейксисе (Ю.Д.Апресян). Формирование классической модели нарратива (и нарративного текста, характеризующегося определенностью дейктического модуса), собственно, и было связано с формированием развитой системы средств вторичного — текстового — дейксиса, в отличие от дейксиса первичного, связанного с прототипической моделью актуальной коммуникации.
Помимо субъектного и пространственно-временного дейксиса, к сфере дейктического модуса текста следует отнести также систему базисных логических принципов (например, принцип причинности). Столь расширительное толкование представляется обоснованным в силу того, что и этот пласт семантики текста выводится читателем все из той же точки отсчета — аналога говорящего, повествователя. Здесь имеет смысл воспользоваться весьма популярной нынче концепцией "возможных миров" — но с одной оговоркой. Концепт "возможного мира", вообще говоря, является прекрасным моделирующим инструментом. Часто, однако, филологи, говоря о "возможных мирах", забывают об одной простой вещи. В философском смысле "возможный мир" вполне может мыслиться как равноправная альтернатива миру действительному, реальному, тому, в котором мы живем. Возможно, именно этот смысл вкладывал в предлагаемое понятие Я.Хинтикка. Но применительно к литературе — скажем точнее: к моделям и формам нарратива — "возможный мир" представляет собой категорию, область определения которой ограничена значительно более строго: это всего лишь один из изводов, вариантов, одна из версий, проекций реального, действительного мира, который заведомо богаче любого "возможного". Не случайно А.Г.Баранов, говоря о "референтивной модальности" текста и о "референциальном статусе текста" (это понятие отчасти близко к предложенному здесь понятию "дейктический модус текста"), пишет: "С усложнением текстовой деятельности, ее диверсификацией и ослаблением связи текста с непосредственной ситуацией общения <...> возрастает роль и чисто вербальных механизмов референции, и когнитивной системы индивида как инструментов осуществления "достижимости" возможного текстового мира из мира актуального" (Баранов 1993: 136. Подчеркнуто мной. — М.Д.). Семантики альтернативы реальному миру "возможный мир" в нарративе лишен, такая семантика лишила бы смысла и самый нарратив, как эпическую форму. В альтернативных отношениях могут находиться "возможные миры" в пределах мира одного художественного произведения ("Война и мир", "Идиот", "Мастер и Маргарита", "Театральный роман" и т.д. и т.д.) или в рамках интертекстуальных взаимодействий, но все они, помимо этого, объединены — по принципу дополнительности, иерархии или иному — соотнесенностью с миром действительным, и без этой соотнесенности они бессмысленны. Именно поэтому классическая модель нарратива проецирует на любой "возможный мир" его важнейший признак: определенность пространственно-временных координат, для чего и требуется неподвижная точка отсчета — стабильно локализованный в структуре текста повествователь. Парадоксально, но факт: отталкиваясь от дискурсивной, по своей сути, модели актуальной коммуникации, классический нарратив как бы лишался и этой фигуры (повествователя); ведь формирование системы вторичного дейксиса есть не что иное, как превращение "материально обозначенного" повествователя в "нуль" повествователя (точнее — повествователя с "нулевым экспонентом"). Но этот "нуль", если "правило нуля" в течении текста не нарушается, вполне справляется с функцией стабильной точки отсчета.
С тем же основанием можно утверждать, что традиционный нарратив, основываясь на том же механизме, проецирует на "возможный мир" логику действительного; соблюдение этой логики естественно и незаметно; но нарушения этой логики не просто маркированы — они становятся сюжетообразующими элементами ("Нос", "Записки сумасшедшего", сочинения Антония Погорельского или, скажем, братьев Стругацких, и т.д.). Похоже, именно определенную соотнесенность, в частности, с логикой актуального мира имеет в виду и А.Г.Баранов, говоря (несколько туманно) о "достижимости" возможного мира из действительного.
Сказанное можно суммировать в определении: дейктический модус текста — это функционально-семантическая категория текста, базирующаяся на значениях референциальной определенности / неопределенности всех содержащихся в нем элементов субъектной (имеется в виду субъект речи) и хронотопической семантики. Следует подчеркнуть, что само по себе требование определенности референции субъектных и хронотопических элементов имеет онтологический характер и действительно, в принципе, для любого вида речевых произведений. Нарушение этого требования ведет к дефектности коммуникации, нарушению коммуникативных норм (что отражено, например, и в известных максимах Грайса), коммуникативным сбоям, речевым конфликтам. Такое нарушение свидетельствует или о помехах в канале коммуникации, или о коммуникативной неудаче говорящего, или о его особых намерениях. Поскольку норма не предполагает ни первого, ни второго, а в третьем случае требует специальной осведомленности адресата об особых намерениях отправителя, постольку и понятие дейктического модуса текста целесообразно использовать применительно к таким объектам, в которых нарушение требования определенности референции является принципиальным, входит в намерения отправителя.
Итак, дейктический модус текста имеет одно из двух значений: определенность или неопределенность. В первом случае все эгоцентрические элементы текста получают непротиворечивую интерпретацию через соотнесенность с надежной точкой отсчета — стабильно локализованной в тексте фигурой повествователя; точка отсчета может смещаться, но ее надежность сохраняется маркированием и мотивацией этих смещений. Для читателя дейктическая определенность, соответственно, означает возможность составить непротиворечивую картину изображаемого "возможного мира". Можно сказать, что в этом случае имеет место дейктический паритет между автором и читателем: читателю предоставляется равная возможность проникать вместе с автором в любую точку художественного пространства-времени; хронотоп не имеет закрытых для читателя зон. Дейктическая определенность текста и дейктический паритет автора и читателя — настолько существенные признаки классического (традиционного) нарратива, что их соблюдение — хотя бы в основном — позволяет автору иногда ошибаться (иногда намеренно). В самом деле: требуется, как правило, специальное исследовательское усилие, чтобы обнаружить (нечаянные) огрехи автора, те нарушения правил игры, которых ему не удалось избежать[111]. Отсюда вытекает еще одно понятие: мера энтропии дейктической определенности текста. Ясно, что в классической модели нарратива эта мера (конечно, практически всегда существующая) довольно мала.
Понятие дейктического паритета может быть расширено еще одним аспектом. Если учесть приведенные выше соображения (об отношениях автора и Чичикова, ср. другие известные случаи экспериментирования с этой нормой: "Евгений Онегин", "Герой нашего времени"), то можно говорить и о своеобразном паритете между автором и героями, то есть об определенности соотношения локализаций автора (повествователя) и героев[112]. Нет необходимости пояснять, что этот аспект на самом деле является еще одной составляющей дейктического паритета между автором и читателем, также принимающей участие, помимо прочего, в моделировании образа читателя.
В модернистском повествовании картина резко меняется. Дейктический модус текста принимает значение неопределенности, дейктический паритет утрачивается. Е.В.Падучева удачно описывает недоумение читателя "Пнина", который не может найти непротиворечивое истолкование пространственно-временной локализации повествователя-наблюдателя в тексте, а рассказ "Набор" аттестует и вовсе пейоративно: "это одно из характерных набоковских издевательств над читателем" (Падучева 1996: 382—384; 385).
Если рассмотреть под этим углом зрения рассказы из книги В.В.Набокова "Весна в Фиальте", станет ясно, что эта книга представляет собой своеобразный испытательный полигон, роль мишеней на котором была уготована всем без исключения аспектам дейктического модуса текста. Приглядимся хотя бы к нескольким рассказам.
"Весна в Фиальте": в первом же рассказе обнаруживаем смещение нормальных пространственно-временных параметров и логических мотивировок на метафорическом и синтаксическом уровнях: "Именно в один из таких дней раскрываюсь, как глаз, посреди города на крутой улице, сразу вбирая все...". Происхождение и смысл метафоры становятся ясны только из финальной фразы, содержащей — синтаксически — и упомянутое смещение пространственно-временных представлений: "Но... внезапно я понял... почему... мерцало море: белое небо над Фиальтой незаметно налилось солнцем... и это белое сияние ширилось... все растворялось в нем, все исчезало, и я уже стоял на вокзале, в Милане, с газетой, из которой узнал, что... Нина... оказалась все-таки смертной" (Подчеркнуто мной. — М.Д.): "раскрываюсь" — потому, что весь процесс повествования оказывается процессом вспоминания. Этим же мотивируется и немыслимый пространственно-временной скачок в пределах одного предложения.
"Посещение музея": разрушение логических связей (пронизывающее весь рассказ, вплоть до финальной фразы; ср. не только сюжетный алогизм, но особенно диалоги: это не просто нарушение, а другая логика) и пространственно-временного континуума. "Гвоздь программы", однако, не в том, что происходит такое нарушение, а в том, что оно происходит на фоне самой обыкновенной, кондовой логики (другие посетители музея) и самого обыкновенного, не обнаруживающего никаких признаков сумасшествия пространства-времени: "Не стану рассказывать ни о том, как меня задержали, ни о дальнейших моих испытаниях. Достаточно сказать, что мне стоило неимоверного терпения и трудов обратно выбраться за границу...". В результате читатель вынужден отнюдь не проникаться трепетом перед другим — "возможным" — миром, а искать в тексте объяснения наказанию (?), которому подвергся герой, — и, разумеется, тщетно. Реальное объяснение может быть найдено на другом уровне текста, а иногда и в другом рассказе того же сборника (в таком отношении, например, находятся рассказы "Облако, озеро, башня" и "Набор": только из последнего можно установить, в каком смысле В.В.Набоков употребляет в "Облаке..." выражение мой представитель, а это — ключ к интерпретации). В модернистском повествовании дейктический паритет предается полному забвению — зато читателю предоставляется полная свобода!
"Посещение музея" особенно ярко высвечивает существенную особенность модернистского нарратива, прямо вытекающую из дейктической неопределенности текста и отсутствия дейктического паритета. Ролан Барт, анализируя рассказ Бальзака "Sarrasine", убедительно показывает, как с самого начала повествования в нем обнаруживаются 5 кодов (полей), к которым тяготеют все означаемые текста: герменевтический ("голос истины"), семический ("голос личности"), символический ("голос символа"), акциональный (= проэретический, "голос эмпирии"), референциальный (= культурный, "голос знания"). Эти коды "образуют своего рода ячеистую сеть, топику, через которую пропускается любой текст" (Барт 1994а: 28—32). Метод, примененный Бартом, заслуживает экстраполяции на любой повествовательный текст, и процитированное авторское обобщение отнюдь не выглядит поспешным (особенно если не солидаризироваться с последующими авторскими выводами). Что же произойдет, если мы попытаемся приложить этот аппарат к текстам Набокова? Обнаружится, что количество кодов, "ячеистых сетей", удваивается, утраивается..., потому что мультипликации подвергается количество точек отсчета. Герой "Посещения музея" существует в трех пространствах — двух, как кажется, стабильных и одном переходном, — и в каждом своя система кодов ("Навстречу мне из тумана вышел человек в меховой шапке, с портфелем под мышкой и кинул на меня удивленный взгляд, а потом еще обернулся, пройдя. Я подождал, пока он скрылся, и тогда начал страшно быстро вытаскивать все, что у меня было в карманах, и рвать, бросать в снег, утаптывать <...> но для того, чтобы совершенно отделаться от всех эмигрантских чешуй, необходимо было бы содрать и уничтожить одежду, белье, обувь, все, — остаться идеально нагим..."). В рассказе "Набор", по анализу Е.В.Падучевой, — 3 (!) разных "Я" (Падучева 1986: 385—393), никоим образом не совпадающих с "главным героем" Василием Ивановичем, который на самом деле никакой не Василий Иванович. Каждое из этих "Я" повествователя способно, по определению, выполнять роль точки отсчета, но — и это самое главное — установление иерархии этих "Я", как и установление иерархии пространственно-временных и логических систем в "Посещении музея", весьма проблематично. Модернистское повествование, как правило, отказывается от предоставления читателю ниточки-интерпретанты: оно моделирует другого читателя, способного такую ниточку если не отыскать, то досочинить, и таким образом получить "удовольствие от текста".
"Королек": "перевернутое" соотношение виртуального и актуального миров (не первый "вложен" во второй, а — как бы — наоборот); почти полная энтропия субъектного и пространственно-временного дейксиса в виртуальном мире (который на самом деле, конечно, и есть единственный реальный): кто — "Я"? где, когда, почему / зачем / как происходит сотворение мира, в котором убивают "моего бедного Романтовского", в отношении которого его же творец ("Я"), как выясняется, заблуждался, думая, что он не фальшивомонетчик, а "замечательный поэт" (!)?.. Пожалуй, здесь наиболее яркий у Набокова, законченный случай, к которому могут быть прямо отнесены известные слова Ю.М.Лотмана: "Стоит ввести рамку в текст, как центр внимания аудитории перемещается с сообщения на код" (Лотман 1992: 159). Но суть дела в том, что не собственно введение рамки в текст (вещь не слишком новая) интересует нашего требовательного автора. Здесь не просто продолжение известных экспериментов с рамкой, сопровождаемое дальнейшим разрушением дейктического паритета, а моделирование принципиально нового сюжета, в центре которого — процесс создания произведения ("Королек" написан в 1933 г., "Дар" — в 1937 г.). В этом смысле в один ряд становятся почти все рассказы книги (из еще не названных — "Тяжелый дым", "Василий Шишков", "Адмиралтейская игла", "Уста к устам").
Особенно головокружителен кульбит, любезно предлагаемый читателю в "Адмиралтейской игле". Оставляя в стороне этический аспект внутреннего сюжета — отношений между Катей—"Ольгой" и "Леонидом" и нынешнего отношения каждого из них к общему прошлому, — обратим внимание на "перевернутый" субъектно-объектный дейксис. Рассказ по форме представляет собой письмо читателя автору романа "Адмиралтейская игла", и, поскольку роман и его авторесса существуют только в мире рассказа, точнее — только в тексте этого письма, постольку субъект и объект меняются местами: "читатель" выступает в функции автора, "автор" — в роли адресата, читателя. Добавим, что эта мена, составляющая важнейший элемент внешнего сюжета рассказа, превосходным образом коррелирует с внутренним сюжетом отношений героев.
Итак: энтропия пространственно-временной определенности; многократное умножение субъекта, а вместе с ним и точки отсчета; разрушение элементарных логических связей; "перевернутый" субъектно-объектный дейксис; к этому следует добавить нарочитое превращение метатекста в эпитекст, точнее, демонстративное включение в эпитекст таких метатекстовых элементов, которым не то что в эпитексте — вообще в тексте традиционно места не отводится ("Королек", "Набор"), — таков неполный перечень результатов набоковской "стрельбы" по мишени дейктического модуса классического нарратива. Общий итог — создание модели модернистского повествования. И все это вырастает из, казалось бы, невинных и почти незаметных отклонений от "прекрасной ясности" в "Машеньке": ведь в намеренной немаркированности временных переходов там уже содержится идея нарушения дейктического паритета. В этом смысле читатель Набокова мог бы вполне солидаризироваться с Р.Бартом, который нежно обозвал литературу словом, в котором просматривается в лучшем случае какофония...
В заключение этого параграфа, однако, еще одно замечание. Порой кажется, что ставшие классическими слова Ю.М.Лотмана о том, что, рассматривая тексты в их "второй функции" — функции порождения новых смыслов, — "мы можем сталкиваться со сплошным закодированием текста двойным кодом <...> или с сочетанием общей закодированности некоторым доминирующим кодом и локальных кодировок второй, третьей и прочих степеней" (Лотман 1992: 151), — относятся в первую очередь именно к текстам модернизма. Следующая же фраза: "При этом некоторая фоновая кодировка, имеющая бессознательный характер и, следовательно, обычно незаметная, вводится в сферу структурного сознания и приобретает осознанную значимость" (там же) — представляется имеющей прямое отношение к нашему сюжету. Однако эта формулировка Ю.М.Лотмана вскрывает механизм исторического изменения представлений о норме, или о допустимой мере энтропии дейктической определенности текста. В эпоху вытеснения одного класса художественных явлений другим (см. выше) предметом эстетической рефлексии — и ревизии — становится, не в последнюю очередь, и эта норма, что и ведет к превращению ее из фоновой в имеющую осознанную значимость. Таково было положение дел и в период борьбы с классицистическим требованием "трех единств" (которое вполне поддается интерпретации в качестве требования соблюдения дейктического паритета), и в период довольно широкого экспериментирования с рамочными конструкциями и многообразными alter ego повествователя. Так что резкость противоположения традиционного нарратива модернистскому по признаку дейктического модуса текста, еще ощущаемая нами, по-видимому, будет значительно ослаблена временем, как это уже неоднократно бывало в сходных ситуациях. Слова же Ю.М.Лотмана относятся, конечно, не только и не обязательно к модернизму ХХ века. Как, впрочем, и Р.Барта.
2. Единицы текстообразования в модернистском тексте (на материале рассказа "Королек")
Рассмотрим, какие изменения происходят в структуре сверхфразовых компонентов текста — и в организации последнего в целом — в том случае, когда дейктический модус текста характеризуется значением неопределенности. В качестве объекта для наблюдений используем текст рассказа В.В.Набокова "Королек" из сборника "Весна в Фиальте".
Вот первые два абзаца этого текста:
Собираются, стягиваются с разных мест вызываемые предметы, причем иным приходится преодолевать не только даль, но и давность: с кем больше хлопот, с тем кочевником или с этим — с молодым тополем, скажем, который рос поблизости, но теперь давно срублен, или с выбранным двором, существующим и по сей час, но находящимся далеко отсюда? Поторопитесь, пожалуйста.
Вот овальный тополек в своей апрельской пунктирной зелени уже пришел и стал, где ему приказано — у высокой кирпичной стены — целиком выписанной из другого города. Напротив вырастает дом, большой, мрачный и грязный, и один за другим выдвигаются, как ящики, плохонькие балконы. Там и сям распределяются по двору: бочка, еще бочка, легкая тень листвы, какая-то урна и каменный крест, прислоненный к стене. И хотя все это только намечено, и еще многое нужно дополнить и доделать, но на один из балкончиков уже выходят живые люди — братья Густав и Антон, — а во двор вступает, катя тележку с чемоданом и кипой книг, новый жилец — Романтовский. (2.1)
Прежде всего отметим, что субъект повествования или его "заместители", равно как и какие-нибудь одушевленные субъекты действий (что позволило бы читателю реконструировать дейктический центр), в инициальной фразе текста не даны. В прозе XIX в. дейктический центр чаще всего задается в зачине текста:
В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края, для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его крестник, арап Ибрагим (А.Пушкин. Арап Петра Великого); (2.2)
Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. (А.Пушкин. Капитанская дочка) (2.3)
В первом случае очевидно несовпадение повествователя с протагонистом, что подтвердится и позже, из чего следует вывод о "третьеличной" форме повествования ("экзегетический" повествователь, по Е.В.Падучевой); во втором случае очевидно противоположное — "перволичная" форма ("диегетический" повествователь). Однако в прозе XIX в. нередки и такие случаи, когда дейктический центр конструируется постепенно и приобретает определенность к середине или финалу первого абзаца (или ССЦ):
Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова (А.Пушкин. Пиковая дама). (2.4)
Неопределенно-личная конструкция здесь допускает разные предположения о характере фигуры повествователя, и лишь дальнейшее развертывание приводит к более вероятному предположению о форме повествования "от 3-го лица", которое (предположение) в дальнейшем оправдывается[113]. Аналогично в этом смысле начало "Станционного смотрителя".
Таким образом, само по себе отсутствие в зачине набоковского рассказа прямых сигналов, позволяющих идентифицировать дейктический центр, еще не несет ничего неожиданного. Но идентификация дейктического центра неотделима от восприятия всего инициального высказывания в целом, она является одной из обязательных составляющих первичной ориентации читателя в воображаемом пространстве-времени. А собственно сигнификативное содержание первой фразы рассказа В.Набокова в этом плане как раз весьма своеобразно — и более неожиданно, нежели отсутствие прямых дейктических сигналов. Если в любом из упомянутых пушкинских зачинов изображаемая сигнификативная ситуация предстает перед читателем в ясных, поддающихся достаточно полной идентификации контурах, то в данном случае не совсем ясно, о чем, собственно, идет речь: описывается течение некоторой ситуации, но самая суть происходящего реконструкции не поддается. Пушкин апеллирует к опыту более или менее "среднего" читателя (ср. особенно зачин "Станционного смотрителя"; ср. также характерные прямые ссылки на этот опыт: Жизнь армейского офицера известна — с последующей, столь же характерной, конкретизацией "известного" ["Выстрел"]; ср., кроме того, заботу о понимании в тех случаях, когда на читательский тезаурус особенно рассчитывать не приходится ["Арап Петра Великого"]). Набоков же апеллирует к тому опыту, которого у читателя — если только это не собрат по цеху — как бы не должно быть ("как бы" — потому, что Набоков убежден в обратном и иного читателя в расчет не принимает).
В классической повествовательной традиции ясно просматривается дедуктивный принцип представления инициальной ситуации в начальном фрагменте текста: сначала дается более общая ситуативная номинация (Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова; Гости съе