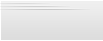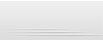Фиксация значения неопределенности при описании восприятия предмета наблюдения – характерная деталь гоголевской стилистики. Взять хотя бы следующий пример:
У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог распознать, какого пола была фигура: баба или мужик. Платье на ней было совершенно неопределенное, похожее очень на женский капот, на голове колпак, какой носят деревенские дворовые бабы, только один голос показался ему несколько сиплым для женщины. «Ой, баба! – подумал он про себя и тут же прибавил: – Ой, нет!» – «Конечно, баба!» – наконец сказал он (Мертвые души).
К подобным неточностям (или неопределенностям) в описании часто прибегает М. Булгаков, например: Какой-то не то больной, не то не больной, а странный, бледный, обросший бородой, в черной шапочке и в каком-то халате спускался вниз нетвердыми шагами (Мастер и Маргарита).
По мнению Д.С. Лихачева, неточности художественного материала – особого рода. «Художественное творчество «неточно» в той мере, в какой это требуется для сотворчества читателя, зрителя или слушателя. Потенциальное сотворчество заложено в любом художественном произведении. Поэтому отступления от метра необходимы для творческого воссоздания читателем или слушателем ритма. Отступления от стиля необходимы для творческого восприятия стиля. Неточность образа необходима для восполнения этого образа творческим восприятием читателя или зрителя»[8].
Критерий понятности и доступности (доходчивости) целиком ориентирован на адресата.
Понятность текста – это возможность определить смысл, доходчивость – возможность преодолеть «препятствия», возникающие при передаче информации.
Оба критерия непосредственно связаны с эффективностью восприятия текста. Воспринимающий чужую речь (в данном случае текст) в какой-то степени опережает ее движение[9].
Это объясняется тем, что адресат владеет «логикой вещей» и «логикой речевого построения», ему известны законы сцепления речевых единиц. Поэтому если этот процесс опережения нарушается, то затрудняется и последующее восприятие. Речевое строение текста утрачивает ясность.
Восприятие может быть затруднено по ряду причин, например из-за сложности самой мысли для данного адресата; из-за неожиданности этой мысли, ее необычности; из-за запутанности ее изложения, выражения мысли; при отклонении мысли в сторону; наконец, из-за незнакомого слова и т.д.
Неясность выражения может быть ненамеренной и намеренной.
Первое оценивается как недочет авторского текстообразования, второе – как осознанно употребляемый прием.
Научный текст, деловой и учебный должен быть предельно ясен по содержанию и выражению мысли. Неясности, снижающие доходчивость и понятность текста, могут возникнуть при перенасыщении, например, научно-популярного текста узкоспециальной терминологией и при усложненности синтаксиса. В учебном тексте неясности провоцируются отсутствием дефиниций при терминах. Во всех этих случаях критерий ясности и доступности требует однозначного употребления понятийных номинаций и определений их, когда предполагается незнание их адресатом.
Даже общий графический облик текста, его расчлененность или нерасчлененность на абзацы, главы и главки, может либо поднимать степень его доходчивости, либо снижать ее. Например, текст официального делового или инструктивного документа, не разбитый на абзацы, становится очень сложным и неясным, если объем используемых в нем предложений чрезмерно велик. Такая осложненность возникает при длинных перечнях правил, рекомендаций, инструкций и т.д. Так возникает необходимость расчленения сложных по объему синтаксических построений.
У текста художественного свои законы, свое отношение к ясности – неясности. Неясность может быть преднамеренной, особенно это касается речи персонажей, когда неясность изложения мыслей служит характерологическим средством. Недоговоренности, неопределенности, затемненности содержания могут быть запланированы автором, отвечать его текстовой идее.
Например, в стихотворении А. Блока «Незнакомка» нарочитые смысловые неясности служат для цели передачи романтического приподнятого состояния лирического героя, туманность нарисованной здесь картины смещает предметы, все становится зыбким, колеблющимся, неясным по очертаниям и действиям, движущимся в «туманном окне»:
И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И они синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.
К «неясности» в изложении мысли прибегает Чичиков в разговоре с Маниловым, хотя, обращаясь к Собакевичу, он предельно ясен. На неопределенности, «неясности» построен весь сюжет «Мертвых душ».
Итак, как и в других случаях критерий ясности, понятности и доступности резко размежевывает тексты художественные и нехудожественные. Характер и назначение текста предъявляют свои требования к этим качествам: либо непременные и жесткие, если текст реализуется в предметно-логических структурах; либо сама неясность становится стилистическим средством, приемом построения текста, если этот текст ориентирован на структуры ассоциативно-образные.
Доходчивость предполагает ясность, но не все ясно изложенное может оказаться доступным каждому, и не всегда плохо и ущербно то, что неясно.
Все эти качества – доступности, ясности, понятности, – связанные с содержательной стороной текста, прямо направлены на восприятие, т.е. определяются читателем. Но тут встает вопрос о самом читателе, его способности адекватно воспринимать текст. Естественно, что восприятие зависит от кругозора читателя, степени его образованности и эрудированности. Но, как было показано в параграфе «Значение и смысл», «глубина прочтения текста» не обязательно связана с логическим анализом его. Эта глубина может зависеть от эмоциональной тонкости читателя, а не от степени развитости его интеллекта[10]. Можно понять логическую структуру текста, проанализировать значение сообщения, но не понять того смысла, который стоит за этим значением, не воспринять подтекста, который и является внутренней сутью этого текста, мотивом его создания.
При характеристике тональных или стилистических качеств текста действует прежде всего критерий эстетический. Этот критерий складывается из оценки чистоты и благозвучия речи, ее выразительности в тексте.
Чистой признается речь, в которой нет нелитературных элементов языка, и прежде всего элементов языка, отвергаемых нормами нравственности[11].
К категории нелитературных элементов относятся диалектизмы, жаргонизмы, арготизмы. Засоряют речь вульгаризмы, бранные слова, слова нецензурные, слова-паразиты.
В последнее время наблюдается явное стремление у некоторых «модных» писателей, а также у газетных журналистов и корреспондентов «подкрашивать» свою речь (именно авторскую, а не только персонажей) нецензурными речениями. Эти процессы детабуизации обсценной лексики в конечном счете обусловлены снятием запрета на обсуждение интимной жизни людей, на публикации эротического содержания. В связи с этим возрастает актуальность проблемы чистоты русской речи.
Чистота речи, таким образом, истолковывается не только как соответствие литературному эталону (норме), но и как соответствие нравственной стороне нашего сознания. В принципиальном смысле критерий чистоты речи не выдерживается и при злоупотреблении иноязычной лексикой, и термин «варваризм» актуален сегодня как никогда.
Чистота речи – требование непременное для таких видов текста, как официальный, специальный, учебный. Однако в других случаях строго нормированная речь производит впечатление речи в высшей степени обесцвеченной, нивелированной, даже в каком-то смысле искусственной, без изюминки. Поэтому художественный текст не может всецело подчиниться такому пониманию критерия чистоты речи. И диалекты, и народное просторечие, и даже в меру употребленные жаргонизмы и арготизмы, а также профессионализмы служат цели создания ярких, правдоподобных речевых характеристик или своеобразных стилистических имитаций. Произведения В. Тендрякова, В. Белова, В. Шукшина, В. Астафьева, В. Распутина и других мастеров слова активно впитывают в себя народное просторечие и диалекты. Это возможно при высоком уровне писательской культуры.
Вот пример использования просторечия в художественном тексте:
Мать Степана рассказывала какой-то пожилой бабе:
– Кэ-эк она на меня навалится, матушка, у меня аж в грудях сперло. Я насилу-насилу вот так голову приподняла да спрашиваю: «К худу или к добру?» А она мне в самое ухо дунула: «К добру!»
Пожилая баба покачала головой.
– К добру?
– К добру, к добру. Ясно так сказала: к добру, говорит.
– Упредила.
– Упредила, упредила. А я ишо подумай вечером-то: «К какому добру, – думаю, – мне суседка-то предсказала?» Только так подумала, а дверь-то открываю – и он вот он, на порог.
– Господи, господи, – прошептала пожилая баба и вытерла концом платка повлажневшие глаза. – Надо же!
Бабы втащили на круг Ермолая. Ермолай, недолго думая, пошел вколачивать одной ногой, а второй только каблуком пристукивал <...>.
– Давай, Ермил! – кричали Ермолаю. – Утя сёдня радость большая – шевелись! (В. Шукшин. Степка).
Однако, как уже было сказано, в текстах массовой печати, в литературных произведениях замечается снижение этого уровня культуры. Ложно понятый тезис о свободе слова привел к полному размыванию границ между языком литературным и нелитературным. Табуированная лексика в массовой печати не может быть оправдана никакими «художественными» задачами. Общий процесс демократизации литературного языка нашего времени вполне объективен и закономерен, однако издержки этого процесса очевидны.
Освоение печатными текстами нелитературных и даже нецензурных фактов языка настолько активно, что возникла необходимость тщательного рассмотрения и изучения такого языкового материала, его характеристики и систематизации. В связи с этим все больше появляется словарей нового типа, в которых нашли отражение периферийные пласты лексики. Например: Девкин В.Д. Проспект словаря разговорноокрашенной и сниженной лексики русского языка// Лексика и лексикография. М., 1993; Елистратов B.C. Словарь московского арго. М., 1994; Толковый словарь уголовных жаргонов/ Под ред. Ю.П. Дубягина, А.Г. Бронникова. М., 1991; Юганов И., Юганова Ф. Русский жаргон 60–90-х годов. Опыт словаря. М., 1994; Словарь образных выражений русского языка/ Под ред. В.Н. Телия. М., 1995; и др.
Говоря о культуре речи, не следует смешивать ее с понятием правильности речи[12].
Правильность речи (т.е. языковая правильность) – это соответствие языковой норме. Это непременное, элементарное качество любого текста (или лучше сказать – требование к любому тексту). Культура речи – это более высокий уровень освоения литературного языка и способ овладения им. Культура речи включает в себя оценки не только правильно – неправильно, но и лучше – хуже, уместнее, выразительнее, точнее и др.
Понятие выразительности речи в тексте имеет разное содержание: выразительность бывает информационная (понятийная), которая достигается логичностью и фактологичностью. И есть выразительность чувственного воздействия. Оба эти вида выразительности могут быть открытыми (экспрессивными) и скрытыми (импрессивными). Например, выразительность в научном тексте достигается путем доказательности, аргументированности, путем прояснения позиции постановкой вопросов, как, например, в следующем тексте:
Скажем так: смысл – это способность порождать другие смыслы.
Разберем это определение сначала формально, а затем и содержательно.
С формальной точки зрения это плохое определение. Можно даже сказать, вовсе не определение. Всякий заметит, что понятие здесь определяется само через себя. Что может быть хуже для определения? Что может быть невнятнее? Что может быть алогичнее? (А.В. Смирнов. Логика смысла. М., 2001. С. 43.)
В художественном тексте выразительность создается наглядной образностью.
Выразительность делового текста заключается в акцентировании императивности, волевых моментов.
Выразительность публицистического текста рождается на стыке речевого стандарта и речевой экспрессии. Соответственно используются и разные средства выразительности: информационные и стилистические.
Особенно разнообразны и избирательны средства художественной выразительности. В качестве таковых могут быть использованы не только собственно художественно-изобразительные средства языка (метафорические свойства языка), но и мотивированные отклонения от языковой нормы, которые выполняют ряд стилистических функций, придавая тексту особую достоверность и красочность. В частности, отклонения от языковых норм могут иметь целью создание «речевой маски», т.е. становятся характерологическим средством (например, немец русского происхождения у Л.Н. Толстого в «Войне и мире» произносит: затэм, импэратор), отклонения могут указывать на социальную маркировку языковых фактов (например, женщина из простого народа в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского говорит: Девчонку-то с парнишкой зловили?). С целью имитации «чужой речи» ненормативные факты языка могут служить сигналом связи разных социально значимых речевых систем (например, при обращении к лакею Вронский, как бы подлаживаясь под его речь, произносит чуждое ему «мамзель»; с другой стороны, кучер Филипп тоже берет «чужое слово» из барской речи – «пронимаж»).
Наконец, некоторые отклонения от общеупотребительных норм могут оказаться средством создания художественного образа, средством создания иронии, особого интимного колорита и т.п.
В свое время Л.В. Щерба тонко заметил: «Только безупречное знание языка, грамматики, дает возможность почувствовать всю прелесть отклонения от правил. Эти отклонения становятся средством тонких и метких характеристик».
Даже нарочито примененная, ошибочная орфография[13] может оказаться стилистическим средством. Недаром ведь Ю. Олеша советовал писателям заняться изучением «неграмотности» языка Л. Толстого. Художественное чутье помогало ему ощутить значимость такой «неграмотности». Подобное можно встретить и у А. Блока – в орфографии, в грамматике. Например, Блок упорно писал троттуар, чередовал мятели и метели, желтый и жолтый, решетка и решотка. Он настойчиво при этом охранял свои оплошности от издателей, требуя от них соблюдения этих различий; оставлял в корректурах указания на этот счет. «Всякая моя грамматическая оплошность в стихах, – писал А. Блок в письме к С. Маковскому (1909), – не случайна, за ней скрывается то, чем я внутренне не могу пожертвовать». Они для него имели цену образно-эстетическую.
Осознанное отклонение от нормы в качестве литературного приема породило новый термин и противопоставление «норма – антинорма»[14].
Осознанная речевая ошибка, к месту и со смыслом сделанная, придает речи некоторую пикантность. Дело в том, что идеально нормативная речь психологически создает ощущение сухости, пресности, она не задевает эмоциональных струн. Как, например, правильно (по грамматике) поставленные знаки препинания не замечаются, но необычные знаки привлекают внимание. Это своеобразный стилистический «шарм». Недаром ведь А.С. Пушкин произнес ставшую в дальнейшем крылатой фразу: «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не терплю».
Как и во многих других случаях, когда речь шла об особенностях языковой структуры текста, подобное качество языка допустимо лишь в текстах художественных и публицистических; в других случаях строгая нормативность безусловна.
[1] См.: Васильева А.Н. Основы культуры речи. М., 1990.
[2] Там же. С. 177.
[3] См. об этом подробнее в параграфе «Целостность и связность как конструктивные признаки текста».
[4] См.: Сергеева Е.В. Ключевые слова в творчестве И. Анненского: Тезисы доклада// Материалы международной лингвистической научной конференции. Тамбов. 1995.
[5] Николаев П.А. Вступ. статья к собр. соч. И. Бунина «Поэзия и проза».
[6] См.: Одинцов В.В. Стилистика текста. М., 1980. С. 157.
[7] См. о книге А. Белого «Мастерство Гоголя» в статье Г. Шульпякова «Колдун появился снова»// Лит. газ. 1996. 11 дек.
[8] Лихачев Д.С. О точности литературоведения// Литературные направления и стили. МГУ, 1976. С. 17.
[9] См. об этом: Васильева А.Н. Основы культуры речи. М., 1990. С. 72.
[10] См.: Лурия А.Р. Языки сознание. М., 1998. С. 258.
[11] См.: Головин Б.Н. Основы культуры речи. М., 1980.
[12] См.: Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи. М., 1980.
[13] О стилистической роли ненормативной орфографии см. также: Зубова Л.В. Поэтическая орфография в конце XX века// Текст. Интертекст. Культура. М., 2001.
[14] Мурзин Л.Н. Речевые приемы и ошибки. Типология, деривация, функционирование// Сб. научных трудов. Пермь, 1989.
Стиль как средство реализации конструктивной идеи произведения
Вл. Соловьев, развивший учение об интуитивном пути познания, пояснял его специфику, рассматривая процесс художественного творчества:
«Те идеальные образы, которые воплощаются художником в его произведениях, не суть, во-первых, ни простое воспроизведение наблюдаемых явлений и их частной, случайной действительности, ни, во-вторых, отвлеченные от этой действительности общие понятия. [...]
Все сколько-нибудь знакомые с процессом художественного творчества хорошо знают, что художественные идеи и образы не суть сложные продукты наблюдения и рефлексии, а являются умственному взору разом в своей внутренней целостности (художник видит их, как это прямо утверждали про себя Гёте и Гофман), и дальнейшая художественная работа сводится только к их развитию и воплощению в материальных подробностях... Если, таким образом, предметом художества не может быть ни частное явление, воспринимаемое во внешнем опыте, ни общее понятие, производимое рассудочной рефлексией, то этим может быть только сущая идея, открывающаяся умственному созерцанию».
Разработка художественной идеи и воплощение в материальных подробностях – это и есть воплощение идеи в стиле, таким образом, в художественном произведении стиль – это материализованная идея.
Если оставить в стороне философское понимание «сущей идеи», то применительно к художественному творчеству можно, видимо, считать ее личностным отношением художника к предмету изображения, это личностное отношение создает свое особое видение мира, которое и воплощается в стиле, а в восприятии – рождает образ этого стиля и образ автора.
Л.Н. Толстой писал: «Во всяком художественном произведении важнее, ценнее и всего убедительнее для читателя собственное отношение к жизни автора и все то в произведении, что написано на это отношение. Цельность художественного произведения заключается не в единстве замысла, не в обработке действующих лиц, а в ясности и определенности того отношения самого автора к жизни, которое пропитывает все произведение»[1]. И еще: «Цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, не есть единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету»[2].
Остановимся на понятиях «иллюзия жизни» и «самобытное нравственное отношение к предмету». Именно здесь заключена разгадка положения о взаимоотношениях идеи и стиля.
А. Мень в «Познании Мира» пишет, что окружающий нас мир – в цвете, очертаниях, размерах – воспринимается по-разному человеком, разными животными, насекомыми. Поэтому и мир представляется разным. А поэтому трудно доказать, что, например, «дерево или этот дом существуют независимо от меня именно такими, как я их воспринимаю». Все зависит от устройства наших органов чувств. Действительно, один и тот же ток, пропущенный через язык, дает ощущение кислоты, пропущенный через глаз, – ощущение красного или голубого цвета, через кожу, – ощущение щекотания, а через звуковой нерв, – ощущение звука.
Если отключиться от чувственности чисто физической и перейти к чувственности эстетико-нравственного порядка, то как раз и получим своеобразную картину мира, увиденную глазами этого художника (не объективную реальность, а иллюзию жизни) и воссозданную в произведении этим художником (через его отношение к увиденному предмету). Разное видение и разное отношение и рождает разный стиль. Увиденный образ мира воплощается в своеобразном образе стиля. Так, индивидуальность может проявляться в чрезмерном развитии чувства звука – рождаются звуковые образы («музыка революции» у Блока); через чувство цвета – рождаются цветовые образы (например, символика цвета у Цветаевой) и т.д.
Процесс рождения стиля через выражение сущностной идеи[3] можно понять, если проследить разные пути познания.
Как уже было отмечено, в гносеологии известны три уровня познания: эмпирический, абстрактный (теоретический) и интуитивный. И именно интуитивное прозрение (в нашем случае – вдохновение) способно проникать в сущность познаваемого, как бы слиться с ним в одно целое и видеть его «изнутри». Естественно, что сущность при этом раскрывается той своей стороной, которая оказывается под воздействием гипертрофированного «органа чувств», наиболее развитого органа чувств. Кстати, при этом не отрицается и равновеликое воздействие, тогда появляется в стиле масштабность и широта, как, например, в творчестве Л.Н. Толстого. Однако чаще всего своеобразность видения проявляется через освещенность одной или другой стороны предмета.
В этом смысле интересно следующее суждение Аристотеля: «...одно слово более общепринято, чем другое, более подходит, более пригодно для того, чтобы представить дело перед глазами... То же с эпитетами: можно образовывать их и от дурного или позорного, например «матереубийца», а можно от благородного, например «мститель за отца» (Аристотель. Риторика). Так одно событие, по-разному увиденное, по-разному воплощается в стиле.
Так срабатывает фактор коммуникативной стратегии. Этот фактор коммуникативной стратегии, или конструктивной идеи, и перерастает в стиль, формирует его. «Соотношение средств и цели, речевого построения и коммуникативного задания – такова... основа выявления и описания качеств речи»[4]. Для подтверждения этого используем пример В.В. Одинцова, в котором он объясняет стилистическую и композиционную мотивированность связи двух сцен, детально описанных Л. Толстым в «Войне и мире», – сцены охоты и сцены одного из боевых эпизодов, в котором участвовал Ростов.
Сцены эти перекликаются не только фактически, событийно, но самое главное – нравственным отношением к событиям, перекликаются и в языковом плане. «Ростов как на травлю смотрел на то, что делалось перед ним»; «С чувством, с которым он несся наперерез волку, Ростов... скакал»; «Ростов сам не знал, как и почему он это сделал» (ударил по французу). Внешне эта сцена была воспринята как блестящий подвиг. Но для самого Ростова (он вспомнил свои ощущения на охоте, вспомнил затравленного волка) этот подвиг превращается в травлю, охоту на человека. Воплощение в стиле – на стилистико-композиционном уровне – идеи осуждения войны проводится от эпизода к эпизоду. Так рациональному противопоставляется эмоциональное, нравственное. Рациональным выводам противоречат сущностные оценки, если для данного автора именно они являются ценностными качествами.
Сам Л. Толстой писал: «Только потому так серьезно описана охота, что она одинаково важна... для понимания как «войны», так и «мира».
Данное сцепление картин, образов, деталей обнажает противоречие в оценке факта, создается напряжение – как идейно-художественное, так и чисто стилистическое (повторы, отсылки, мотивировки – например, изображение атаки дается дважды; с возвращениями к началу, с параллелями со сценой охоты). Внешняя оценка факта сталкивается с внутренним смыслом этого факта в понимании данного героя. Эмоционально напряженное изложение усиливается Л. Толстым в сцене боя тем, что Ростов увидел вдруг молодое, не вражеское, «комнатное» лицо офицера. Именно здесь заложено принципиальное противоречие. С внешней стороны – подвиг, молодецкая атака, Георгиевский крест; а с другой – «молодое, не вражеское, комнатное лицо», зачем это?
Так каждый элемент стиля скрепляет все произведение, проявляет авторскую идею – нравственное осуждение войны.
Следовательно, не столько сама мысль, сам факт, сколько мотив, побудивший ее высказать или показать факт, облекает слово (речь) в особую форму. Именно этот мотив обусловливает общую стилистику текста произведения. Тогда стиль можно понимать как средство реализации этого мотива, или идеи (в художественной литературе – художественной идеи).
В.Г. Белинский писал: «Под слогом мы разумеем непосредственное, данное природой умение писателя... тесно сливать идею с формой и на все налагать оригинальную, самобытную печать своей личности, своего духа»[5].
Таким образом, стиль есть свойство плана выражения, но одновременно средство реализации конструктивной идеи, т.е. не столько мысли (содержания), сколько мотива появления мысли.
Стиль произведения рождает в восприятии образ этого стиля. Когда текстолог доказывает принадлежность какого-то текста данному автору, он имеет в виду образ его стиля, он рисуется ему, он его как бы осязает; и явления, не совместимые с этим образом, не соотносимые с ним, служат аргументом для отрицания данного авторства. Ощущение стиля автора приводит читателя к созданию в воображении и самого образа автора. Недаром французский естествоиспытатель Бюффон (Жорж Луи Леклерк) сказал: «Стиль – это человек».
Итак, стиль произведения, стиль автора оформляется через личностное восприятие мира, с главной, доминирующей идеей в этом восприятии. Это отражается в сочинениях ярко выраженной индивидуальности.
Известно, например, как сильно чувствовал стиль А.А. Блок, какое колоссальное значение он придавал ему. Жизнь языка и литературной формы он ощущал как «скрещивание пород» (термин О. Мандельштама). Именно поэтому в вопросах стиля он всегда был очень осторожен. Он не отрицал ни одного пиетета, не отбросил ни одного канона; не порывал с прошлым, лишь постоянно осложнял свой стиль. Это дало возможность О. Мандельштаму охарактеризовать его как просвещенного консерватора. От произведения к произведению разрабатывая свой стиль, воплощая его в форме, А. Блок был так или иначе под воздействием поглощающей его идеи, выразившейся в области его стиля, – это идея культа. Стиль А. Блока олицетворяет эту идею. Читая «Незнакомку» или «Стихи о Прекрасной Даме», затем «Балаганчик» и «Снежную маску» и далее стихи о России и – переход к революции (музыке революции: «Двенадцать» – драматическая частушка), мы вряд ли сразу сможем выявить связующую идею, единое ее (блоковское) воплощение. Уж очень разные это произведения. И все-таки это единое органическое развитие поэтической идеи – идеи культа: от культа к культу. Всепоглощающая идея культа выражает потребность ее воплощения. Этот культивизм проявляется во всем – даже в орфографии:
Предчувствую Тебя, года проходят мимо,
Все в облике одном предчувствую Тебя...
Провозглашая идеалы Вечной Женственности, А. Блок писал А. Белому: «Я люблю Христа меньше, чем Ее, и в славословии, благодарении всегда прибегну к Ней». И еще: «Чувствую Ее, Христа иногда только понимаю». Идея культа блестяще воплощена в лирико-романтическом стиле А. Блока. Эти идеалы не были неизменными, отношение к ним менялось, но как идеалы они сохранялись: Душа мира, Вечная Женственность были представлены в стихах как Прекрасная Дама. Далее появляется образ Родины. О родине пишут многие поэты. Обычно она ассоциируется с образом матери – Родина-мать, мать сыра земля. Для Блока это образы жены и невесты, т.е. образы интимно-личные. Особенно значимой оказывается контрастность в стилистическом воплощении этих образов: Твои мне песни ветров